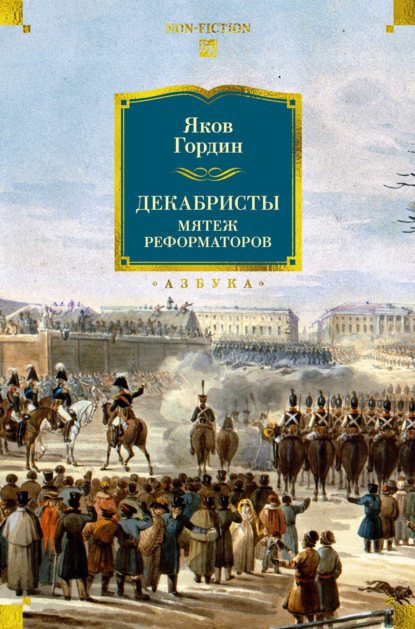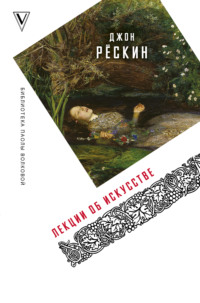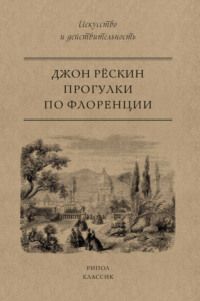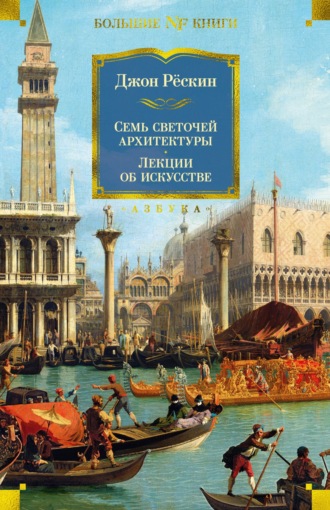
Полная версия
Семь светочей архитектуры. Камни Венеции. Лекции об искусстве. Прогулки по Флоренции
XII. Доступность для зрения, однако, зависит, как следует помнить, не только от местоположения, но и от расстояния: самым прискорбным и неразумным образом труд архитектора теряется именно вследствие чрезмерно утонченной проработки деталей, слишком далеко отстоящих от глаз. Здесь, впрочем, также следует руководствоваться принципом добросовестности: орнамент, который, возможно, предназначен для украшения здания в целом, нельзя отделывать скрупулезно там, где он на виду, и небрежно там, где он не виден. Это жульничество и бесчестность. Обдумайте сначала какие архитектурные украшения будут выигрышно выглядеть издали, а какие вблизи, и распределите их соответственно: более изысканные по своему характеру – ниже, перед глазами; другие – погрубее и примитивнее – поместите наверх; если же некой их разновидности предстоит находиться и близко, и на расстоянии, позаботьтесь об отделке – равно грубой и примитивной в обоих случаях, дабы зритель имел четкое представление о том, что она такое и чего стоит. Так, клетчатый орнамент – и вообще орнамент, посильный для заурядного работника, – может простираться на все здание, однако барельефы, тонкую пластику в нишах и капители следует располагать внизу: здравый подход всегда придаст постройке нужные достоинства, даже при определенной неловкости и неуклюжести исполнения. К примеру, в церкви Сан-Дзено в Вероне барельефы, очень уместные и исполненные значимости, сосредоточены внутри параллелограмма на фасаде, достигая капителей колонн портика. Выше мы видим простую, но в высшей степени очаровательную аркадку, а над ней – только глухую стену с прямоугольными пилястрами. Общее впечатление намного величественней и выгодней, чем если бы весь фасад был изукрашен грубой резьбой и мог бы служить примером того, как обходятся малым там, где нельзя позволить многое. Опять-таки, порталы трансепта в Руане[12] обрамлены изощренными барельефами (о которых я буду говорить подробно ниже), возвышающимися примерно до полуторакратного человеческого роста, а выше находятся обычные и хорошо различимые статуи и ниши. То же самое во флорентийской кампаниле: замкнутая цепь барельефов на самом нижнем ярусе, над ними – статуи, а еще выше – узорная мозаика и витые колонны, законченно совершенные, как и всё в итальянском искусстве того времени, но тем не менее в глазах флорентийца – неотделанные и грубые в сравнении с барельефами. Наиболее утонченно отделанные ниши и лучшие лепные украшения французской готики располагаются, как правило, на порталах и невысоко поднятых над землей окнах, хорошо доступных глазу; хотя, поскольку самой сутью этого стиля являлся расчет на эффект, достигаемый благодаря избыточности, подчас наблюдается устремленность ввысь, в небо, как на фронтоне западного фасада Руана и в углублении круглого окна-розы за ним, где помещены весьма изощренные лепные украшения в виде цветов, едва видимые снизу и лишь усиливающие игру теней, придающих контрастность выдвинутому вперед фронтону. Примечательно, однако, что изделия эти представляют собой образец дурной пламенеющей готики и обладают извращенными, характерными для Ренессанса признаками как в работе над деталями, так и в самом их применении; тогда как построенные ранее и более величественные северный и южный входы отличаются благородством отделки: ниши и статуи, венчающие северный вход на высоте приблизительно сотни футов от земли, равно грандиозны и незамысловаты при взгляде снизу, но и наверху они отделаны добросовестно и полноценно; очертания их прекрасны, предельно выразительны и столь же искусно доведены до совершенства, как всякое произведение искусства того времени.
XIII. Необходимо, впрочем, помнить, что, хотя украшения каждого старинного здания (насколько мне известно, исключений здесь нет) у цоколя имеют самую тщательную отделку, в верхних частях их часто еще больше. В высоких башнях это совершенно естественно и правомерно: целостность основания здесь так же обязательна, как и расчлененность и проницаемость надстройки; отсюда большая легкость и ажурность позднеготических башен. Уже упоминавшаяся колокольня Джотто во Флоренции – великолепный пример единства этих принципов: утонченные барельефы украшают массивный фундамент, тогда как сквозное кружево верхних окон привлекает взгляд изысканной затейливостью, а все здание увенчано роскошным карнизом. Во всех подобных случаях, когда размещение выполнено удачно, отделка верхней части здания хорошо выглядит благодаря изобилию и затейливости, нижние же части – изысканности; именно так обстоит дело в руанской Тур-де-Бёр, где, впрочем, детали всюду массивны, однако по мере подъема вверх делаются все более расчлененными. Этот принцип нельзя применять с той же уверенностью для главных объемов зданий, однако разбор его выходит за рамки нашей темы.
XIV. Наконец, работа может оказаться растраченной впустую потому, что либо слишком хороша для выбранного материала, либо слишком тонко исполнена и пригодна только для интерьера, что стало, начиная с Ренессанса, вероятно, одним из худших недостатков современных зданий. Не знаю ничего более тягостного и прискорбного, нежели резьба из слоновой кости, которой инкрустированы Certosa в Павии и часовня склепа Коллеоне в Бергамо, думать о которой утомительно и даже просто смотреть на нее мучительно. Причиной тому – не изобилие и не скверное исполнение, напротив, оно искусно и изобретательно: нет, вид у этой резьбы такой, словно она пригодна лишь для хранения не то в инкрустированных деревянных ларцах, не то в выложенных бархатом шкатулках и не способна выдержать ни ливня, ни заморозка. Мы боимся за нее и чувствуем, что массивная колонна, рельефная тень удачно заменили бы всю эту роскошь. Тем не менее даже в подобных случаях многое зависит от того, насколько архитектурная отделка достигает своей цели. Если это действительно украшение и возникающая благодаря ему светотень влияет на общий эффект, нас не покоробит открытие, что скульптор от избытка фантазии не ограничился просто бликами, а скомпоновал из них группы фигур. Но если украшение себя не оправдывает, не способно действовать на расстоянии, если при беглом взгляде оно кажется просто ни о чем не говорящей неровностью поверхности, то мы лишь расстроимся, когда, подойдя поближе, обнаружим, что оно стоило не одного года труда, изображает великое множество фигур и историй и было бы лучше рассматривать его через лупу Стенхопа. В том и заключается величие северной готики по сравнению с поздней итальянской. Она достигает почти такой же степени детализации, не упуская собственного архитектурного смысла, никогда не утрачивает декоративной силы: даже крохотный листок в ней много говорит взгляду, в том числе и на большом расстоянии; а раз так, то не существует ограничений для роскошеств, в которых подобная работа может быть и оправданной, и уместной.

I. Орнаменты из Руана, Сен-Ло и Венеции
XV. Никаких границ: архитекторы любят говорить о перегруженности украшений деталями. Если украшения хороши, они не вызывают чувства избыточности; если плохи – всегда излишни. Привожу на соседней странице (рис. I, 1) изображение одной из самых малых ниш центрального портала Руана. Этот портал я считаю наиболее совершенным образцом пламенеющего стиля из числа существующих; хотя я вижу в верхней части, в особенности в заглубленном окне, свидетельства упадка, сам портал относится к периоду, свободному от губительного влияния Ренессанса. По обеим сторонам крыльца расположены четыре ряда ниш (каждая с двумя фигурами внизу) высотой от земли до верха арки, с двумя промежуточными рядами ниш большего размера и гораздо более проработанных; кроме того, здесь расположены шесть балдахинов на каждом из внешних столбов. Общее число одних только второстепенных ниш, каждая из которых проработана так, как показано на рисунке, причем в каждом отделении каждой из них представлен различный образчик ажурного узора, составляет сто семьдесят шесть[13]. И однако во всем этом орнаменте не найти ни единого выступа, ни единого флерона, которые были бы никчемны, ни единого напрасного взмаха резца; изящество и роскошь целого очевидны – точнее, осмысленны – даже для праздного взора; и вся эта предельная скрупулезность нисколько не умаляет величественности, разве что усугубляя тайну прекрасного нерасчлененного свода. Уместность украшений не может служить предметом гордости для одного стиля, как для другого – отсутствие необходимости в них; однако мы не слишком часто задумываемся над тем, что эти самые стили, преимуществом которых считается показная простота, столь привлекательны благодаря контрасту, а став универсальными, наводили бы уныние. Эти стили – скучная повседневность искусства: куда более возвышенными и упоительными восторгами мы обязаны прекрасным фасадам с пестрой мозаикой, где теснятся причудливые фантазии, сонмы смутных образов, многочисленней и чудесней которых не рождал ни один сон в летнюю ночь, эти сводчатые порталы, тесно оплетенные листвой, эти окна-лабиринты из витых кружев и звездчатых просветов, эти неясные громады бессчетных шпицев и увенчанных коронами башен предстают нашим глазам как единственные, быть может, свидетельства веры и благоговейного трепета давних поколений. Все прочее, ради чего строители приносили жертвы, миновалось – все их злободневные заботы, цели, достижения. Нам неведомо, ради чего они трудились, неочевидна для нас полученная ими награда. Победы, богатство, власть, счастье – все исчезло, хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов осталась нам единственная память, единственное их вознаграждение – в виде вот этих серых груд старательно обработанного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои силы, свои почести и свои просчеты, но оставили нам одно – свое поклонение.
Глава II
Светоч Истины
I. Существует явное сходство между нравственностью человека и освещенностью планеты, на которой он живет, – такое же ослабление света по мере отступления к пределам собственных владений, та же существенная удаленность от своей противоположности, тот же неясный сумрак, отделяющий от нее, – не четкая линия, а полоса постепенно сгущающегося мрака, в который погружается мир, – призрачные сумерки души, нейтральная область, где целеустремленность постепенно переходит в фанатизм, умеренность – в нетерпимость, справедливость – в жестокость, вера – в суеверие, и в конце концов все вместе тонет в непроглядной тьме.
Тем не менее, когда сумрак сгущается окончательно, несмотря на смутность и постепенность его наступления, мы можем отметить мгновение заката и, к счастью, можем повернуть тень вспять, заставив ее убывать тем же путем, по которому она надвигалась; но, во-первых, горизонт неровен и неясен, а во-вторых, сам экватор – Истина – это единственная четкая, неразмытая черта, а ее постоянно норовят стереть или проигнорировать, она же и ось земли – облачный столп, тонкая золотая линия, но ее так трудно придерживаться даже тем силам и добродетелям, которые на нее опираются, ее искажают политика и благоразумие, ее затушевывают доброта и любезность, заслоняет своим щитом храбрость, воображение прикрывает своим крылом, а милосердие затуманивает слезами. Как же трудно ей сохранять свое влияние, если, будучи призвана сдерживать все худшее в человеке, она должна также сдерживать и сумбур всего лучшего в нем, тогда как, с одной стороны, ее постоянно попирают, а с другой – от нее отступают, а она с одинаковой строгостью отвергает как малейшее, так и грубейшее нарушение своих установлений. Любовь мирится с недостатками, мудрость терпима к ошибкам, и только истина бескомпромиссна и непогрешима.
Мы же об этом не задумываемся и не боимся понемногу грешить против нее. Ложь мы привыкли замечать только в ее неприглядности, сквозь призму ее худших намерений. Неприятие, которое вызывает у нас ложь, на самом деле относится только ко лжи злонамеренной. Мы осуждаем клевету, лицемерие и предательство, потому что они наносят нам ущерб, а не потому, что они противны истине. Если бы не вред и урон, наносимые ложью, мы ничего не имели бы против нее, а в виде похвалы она нам даже приятна. И все же клевета и предательство – не самое распространенное зло в мире, они доступны разоблачению и ощутимы только после него. А вот любезная и вкрадчивая ложь, сладкая лесть, патриотичная ложь историка, предусмотрительная ложь политика, пламенная ложь фанатика, сострадательная ложь друга, легкомысленный самообман, свойственный любому из нас, – все это набрасывает на человеческую природу непроницаемую темную пелену. И мы благодарим тех, кто помог нам проникнуть к истине сквозь эту пелену, как благодарят того, кто вырыл в пустыне колодец. Ибо, к счастью, несмотря на то, что мы сознательно покинули истоки истины, жажда ее знать все-таки нас не покидает.
Моралисты часто путают два понятия, отличные друг от друга: тяжесть греха и его непростительность. Степень вины зависит, с одной стороны, от характера обманутого человека, а с другой – от следствий обмана. Можно ли простить обман или нет – чисто по-человечески – зависит от того, насколько принуждают к этому обману обстоятельства: одни обстоятельства отягчают степень вины, другие же, наоборот, оправдывают обман. И поскольку людям сложно оценить тяжесть вины, равно как и последствия обмана, они предпочитают не давать подобного рода оценок, а обратиться лучше к другим, более явным преступлениям, совершенным под наименьшим давлением обстоятельств. Я нисколько не намерен преуменьшать вину зловредного и злонамеренного лжеца, умышленно прибегающего к обману в корыстных целях; но все же мне кажется, что кратчайший способ борьбы с наиболее вопиющими формами обмана состоит в том, чтобы внимательнее относиться к тем его проявлениям, которые незаметно и безнаказанно вошли в повседневный обиход. Давайте вообще перестанем лгать. Перестанем оправдывать ложь тем, что она безобидна, или незначительна, или непреднамеренна. Откажемся от нее полностью – от самой ничтожной и случайной; вся она, словно мерзкая копоть из преисподней, оседает в наших сердцах, очистимся от нее, не разбирая, насколько она черна и отвратительна. Говорить правду – все равно что грамотно писать – этому можно научиться, только постоянно упражняясь; это зависит не столько от желания, сколько от привычки. Говорить правду и поступать по правде постоянно и неотступно – почти так же трудно и так же похвально, как и делать это под страхом наказания; поразительно, сколь многие готовы ради правды жертвовать жизнью и сколь немногие готовы ради нее терпеть хоть малейшие неудобства в повседневной жизни. И, зная, что из всех грехов, пожалуй, нет ни одного, столь противоположного Божественному началу, добродетели и жизни, как ложь, было бы неслыханной дерзостью запятнать себя ложью просто так, без всякого давления обстоятельств. Стать честным человеком – значит решить для себя, что никакие иллюзии или заблуждения, которые навязывает нам неумолимая жизнь, не бросят тень на наши сознательные поступки и не изменят подлинную сущность выбранных нами идеалов.
II. И если вышесказанное справедливо и мудро, когда мы говорим об истине, то тем более это распространяется и на все, что находится под влиянием истины. Я доказывал необходимость проявления Духа Жертвы в отношении человеческих поступков и удовольствий не потому, что это могло бы продвинуть вперед дело религии, но поскольку сами человеческие поступки, безусловно, были бы этим бесконечно облагорожены, и я хотел бы находить Дух или Светоч Истины в сердцах художников и мастеров не потому, что верность истине в искусстве могла бы далеко продвинуть дело истины, но для того, чтобы сами искусства и ремесла преисполнились благородства: поистине поразительно, какая власть и непреложность заключена в одном этом принципе и насколько от следования ему или от его забвения зависит возвышение или упадок любого искусства и любой человеческой личности. Я уже пытался показать влияние и силу Духа Истины в живописи, и, думаю, не одну главу, а целый том можно было бы написать о его значении для величия архитектуры. При этом я вынужден удовольствоваться немногими самыми известными примерами, учитывая, что его проявление легче обнаружить в верности истине, нежели в рассмотрении того, что есть истина.
Но прежде необходимо определить, в чем состоит отличие неправды от художественного вымысла.
III. На первый взгляд все царство воображения есть сплошной обман. Однако это не так: воображение всегда обращается к предметам отсутствующим или несуществующим, именно в их познании и созерцании состоит наслаждение и благородство воображения, то есть в сознании невозможности их фактического присутствия или существования в момент их кажущегося присутствия или существования. Когда воображение нас обманывает, наступает безумие. Воображение остается свойством возвышенным до тех пор, пока оно признает собственную идеальность, а переставая признавать ее, оно превращается в безумие. Вся разница состоит в этом признании, в отсутствии обмана. Обладая духовной сущностью, человек наделен способностью выдумывать и созерцать то, чего на самом деле нет, а обладая сущностью нравственной, он должен в то же время сознавать и признавать, что этого на самом деле нет.
IV. Опять-таки, можно считать и считалось, что искусство живописи в целом есть не что иное, как стремление обмануть. Но это не так: напротив, это утверждение определенных фактов наиболее ясным способом. Например: я хочу рассказать о какой-то горе или скале; сначала я стану на словах описывать ее форму. Но слов окажется недостаточно, и я, взяв лист бумаги, попробую ее нарисовать и скажу: «Такова ее форма». Далее: я наверняка постараюсь передать ее цвет, но словами это сделать также не удастся, и я раскрашу рисунок и скажу: «Таков ее цвет». Это может продолжаться до тех пор, пока не возникнет изображение, неотличимое от реального предмета, и видимое присутствие этого предмета доставит нам немалое удовольствие. Это акт воображения, а не обман. Обман может заключаться только в утверждении действительного присутствия (которое никогда ни на миг не допускается, не подразумевается и не принимается на веру) или в неправильной передаче формы и цвета (что, увы, нередко происходит и вводит нас в заблуждение). Заметим также, что обман сам по себе – явление столь разрушительное, что всякая живопись, достигая буквального воспроизведения реальности, начинает деградировать. Я уделил этому внимание в другом месте.
V. Нарушение истины, унижающее поэзию и живопись, по большей части может быть сведено к трактовке предмета. В архитектуре же возможно другое, более явное, более предосудительное попрание истины – прямой подлог, касающийся природы материала или количества затраченного труда. Речь идет о неправде в полном смысле этого слова, которая так же заслуживает осуждения, как любая безнравственность; она одинаково не достойна как архитекторов, так и наций; и повсюду, где бы она ни была распространена и допущена, она служит признаком явной деградации искусства. То, что это не признак худшего – общего отсутствия честности, может быть объяснено только нашим представлением о том странном разделении, которое веками существовало между искусством и всеми другими проявлениями человеческого разума в вопросах совести. Исключение добросовестности из числа качеств, важных для искусства, разрушая само искусство, сводит на нет его способность обнаруживать характер создавшей его нации; иначе сколь странно было бы, что такая нация, известная своей честностью и благородством, как англичане, может допустить в своей архитектуре больше притворства, скрытности и обмана, чем любая другая в наше время или когда-либо в прошлом.
Происходит это по недомыслию, но оказывает на искусство пагубное воздействие. Если бы не было других причин, вызывающих в последнее время неудачи в любом значительном архитектурном начинании, то и одного этого мелкого мошенничества было бы достаточно. Покончить с ним необходимо, чтобы сделать первый решительный шаг на пути к величию; сделать этот первый шаг – несомненно всецело в нашей власти. Если даже мы не в силах создать значительную, прекрасную и оригинальную архитектуру, то мы можем создать честную архитектуру: можно простить ограниченность наших возможностей вследствие бедности, уважать строгость целесообразности, но низость обмана не заслуживает ничего, кроме презрения.
VI. Архитектурные подделки можно разделить на три основные категории:
1. Имитация конструктивных элементов и опор, не являющихся таковыми на самом деле; например, висячие орнаменты крыш в поздней готике.
2. Живописное украшение поверхностей, изображающее материал иной, чем тот, из которого они сделаны на самом деле (например, роспись дерева под мрамор), или иллюзорные изображения скульптурных украшений на поверхности.
3. Использование литых или механически изготовленных украшений любого рода.
Одним словом, архитектура будет благородна в той мере, в какой она избежит всех этих подделок. Существуют, однако, определенные их разновидности, которые в силу частого их применения или по другим причинам не воспринимаются как подделки. Например, позолота, которая в архитектуре не является обманом, ибо там ее никогда не выдают за работу из цельного золота, тогда как в ювелирном деле позолота является обманом, ибо имитирует изделие из чистого золота, а потому обычно достойна осуждения. Таким образом, применение строгих правил подразумевает немало исключений и тонкостей, которые мы попробуем вкратце рассмотреть.
VII. 1. Подделка конструкций. Я упомянул прием, при котором намеренно создается видимость опоры, иной, чем подлинная. Архитектор не обязан демонстрировать конструкции; и мы не можем сетовать на него за то, что он их скрывает, как не сетуем мы на природу, которая, создав человеческое тело, скрывает скелет; однако наиболее благородным представится просвещенному взору то здание, которое раскрывает подлинные конструкции, подобно форме тела у животных, хотя от невнимательного взора эта суть скрыта. Своды готического собора не обманывают нас, демонстрируя перенос тяжести на ребра, оставляя заполнению роль простой оболочки. Такая конструкция понятна умному наблюдателю с первого взгляда, а красота ажурной каменной работы только возрастет, если она будет следовать силовым линиям несущей конструкции. А вот если бы промежуточное заполнение было сделано из дерева, а не из камня и побелено, чтобы не отличаться от других поверхностей, это, конечно, был бы совершенно непростительный прямой обман.
В готической архитектуре есть, однако, некоторый неизбежный обман, касающийся не существа, а оформления несущих элементов. Колонны и нервюры напоминают стволы и ветви дерева, что дало почву довольно нелепым рассуждениям и неизбежно внушает наблюдателю мысль о соответствующей внутренней структуре, то есть о непрерывности волокон, переходящих из корней в ветви, и об упругой силе, направленной вверх. То, что на самом деле своды с огромной силой давят на тонкие составные нервюры, стремясь обрушить или разорвать их и выдавить наружу, воспринимается с трудом, а это тем более существенно, когда столбы без дополнительной помощи слишком тонки для такого веса и поддерживаются внешними контрфорсами, как в апсиде собора в Бове и в других образцах более зрелой готики. Возникает вопрос о добросовестности, который мы едва ли решим, не приняв во внимание, что если наш ум обладает представлением о подлинной природе вещей, исключающим возможность заблуждения, то впечатление, противоположное этому представлению, при всей своей отчетливости является не обманом, а, напротив, законным обращением к воображению. Например, удовольствие, которое мы получаем от созерцания облаков, во многом зависит от впечатления, будто облака представляют собой плотную, светящуюся, теплую холмистую массу; а наше удовольствие от созерцания неба часто связано с тем, что мы рассматриваем его как голубой свод. Но в обоих случаях мы знаем, что это не так, мы знаем, что облака – это скопления водяного пара или ледяных кристалликов, а небо – это темная бездна. Таким образом, никакого обмана тут нет, а прямо наоборот – есть наслаждение от впечатления явлений. Точно так же, поскольку камни и швы открыты нашему взору и мы не впадаем в заблуждение относительно опорных конструкций, мы должны не сетовать, а восхищаться ловкостью строителей, которые заставляют нас ощущать волокнистость стволов и жизнь, пульсирующую в ветвях. Ничего предосудительного нет и в том, что на самом деле опорой являются внешние контрфорсы, поскольку колонны отчасти соответствуют своему назначению. Ведь наблюдатель обычно понятия не имеет, насколько велик вес сводов, и, следовательно, предосторожности, предпринятые для необходимого распределения нагрузки, являются подробностью, в которую он не вникает. Поэтому, если поддерживаемый вес безусловно не осознается, нет никакого обмана в том, чтобы отвлечь внимание и от основных опор, подчеркнув те опоры, которые соответствуют создающемуся впечатлению тяжести. Ведь колонны на самом деле принимают на себя ту нагрузку, которая им приписывается, а система дополнительных опор не обязательно должна привлекать внимание, как и дополнительные приспособления человеческого или любого другого организма, необходимые для его функционирования.