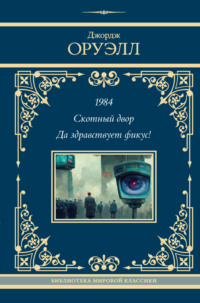Полная версия
Бывали моменты, когда становилось невозможным перенаправить по собственному желанию свою ненависть в другое русло. Неожиданно Уинстон, приложив большое усилие, – сродни тому, с которым отрываешь голову от подушки, избавляясь от ночного кошмара, – преуспел в переключении своей ненависти с лица на экране на сидевшую сзади него темноволосую девушку. Живые, прекрасные галлюцинации пронеслись в его воображении. Он забивает её насмерть резиновой дубинкой. Он привязывает её голой к столбу и обстреливает её стрелами, как Святого Себастьяна. Он насилует её, и в момент оргазма перерезает ей горло. Более того, сейчас он лучше, чем ранее, понял, ПОЧЕМУ он так её ненавидел. Он ненавидел её, потому что она молодая, миловидная и лишённая сексуальности, потому что он хочет переспать с ней, но никогда этого не сделает, потому что вокруг её сладкой гибкой талии, которая, казалось бы, так и просится, чтобы её обвили твои руки, обёрнут этот одиозный алый пояс, агрессивный символ непорочности.
Ненависть достигла апогея. Голос Голдстейна превратился в самое нестоящее блеяние овцы, и на какую-то секунду вместо лица его появилась овечья морда. Затем лицо-морда растаяли и превратились в евразийского солдата, огромного и ужасного, который, казалось, двигался вперед со своим ревущим пулемётом и, казалось, вот-вот выпрыгнет за поверхность экрана, так что некоторые люди в первом ряду подались назад на своих местах. Но в тот же самый момент, вызвав вздох облегчения у каждого, вражеская фигура растаяла, уступив место лицу Большого Брата, черноволосому и черноусому, полному силы и таинственного спокойствия, лицу такому огромному, что оно заполнило почти весь экран. Никто не слышал, что Большой Брат говорил. То были всего лишь несколько ободряющих слов, которые произносят при грохоте боя, слов, самих по себе неразборчивых, но восстанавливающих уверенность просто тем фактом, что они произнесены. Потом лицо Большого Брата постепенно растаяло, и на смену ему встали три лозунга Партии, выведенные большими отчётливыми буквами:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Однако казалось, что лицо Большого Брата ещё несколько секунд присутствовало на экране, как будто влияние его образа на глаза людей было слишком сильным, чтобы сразу же пропасть. Маленькая женщина с волосами песочного цвета бросилась вперёд на спинку стоящего перед ней стула. С дрожью в голосе она бормотала что-то типа «Мой Спаситель!» и тянула руки к экрану. Потом она закрыла лицо руками. Было ясно, что она читает молитву.
В этот момент вся группа пустились в ритмичное пение, низкое и медленное, в котором «Б-Б!.. Б-Б!» повторялось снова и снова, потом очень медленно, с длинными паузами между первым «Б» и вторым… Тяжёлые звуки, бормотание, какое-то на удивление дикарское пение, на заднем плане которого, казалось, слышен был топот босых ног и бой тамтамов. Они продолжали в том же духе ещё секунд тридцать. Во время припева часто ощущался особый эмоциональный подъём. Отчасти это был гимн мудрости и величию Большого Брата, однако в большей степени это был акт самогипноза, намеренный уход в бессознательное состояние с помощью ритмического шума. Уинстону казалось, что всё внутри у него замерзло. Во время Двухминутки Ненависти невозможно не разделить общего сумасшествия, но это нечеловеческое повторение «Б-Б!.. Б-Б!» всегда приводило его в ужас. Конечно, он пел вместе со всеми – невозможно было этого не делать. Скрывать свои чувства, контролировать лицо, делать то, что делают остальные – такова была инстинктивная реакция. Но был какой-то промежуток, длиной в две секунды, во время которого его глаза могли его выдать. И было это точно в тот самый момент, когда произошла эта важная вещь… если она, и в самом деле, произошла.
На мгновение он поймал взгляд О’Брайена. Перед этим О’Брайен встал. Он снял очки, и как раз поправлял их на носу этим своим характерным жестом. И была какая-то доля секунды, когда их глаза встретились, и пока этот момент длился, Уинстон знал… да, он ЗНАЛ!.. что О’Брайен думает то же самое, что и он сам. Послание, которое невозможно было понять неправильно, было передано и получено. Как будто два их сознания открылись, и мысли перетекли из одного в другое через взгляд. «Я с тобой, – казалось, говорил ему О’Брайен. – Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю всё о твоём презрении, о твоей ненависти, о твоём отвращении. Но не беспокойся, я на твоей стороне!» А затем эта вспышка интеллекта исчезла, и лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как и у всех остальных.
Вот и всё. Да он уже не был уверен, произошло ли это на самом деле. Из таких инцидентов никогда ничего не вытекало. Результатом их действия было лишь то, что ему удавалось сохранять веру, или надежду, что были враги Партии ещё и кроме него. В конце концов, не исключено, что слухи о подпольных конспираторах не лишены оснований, не исключено, что Братство существует на самом деле! И при всех этих бесконечных арестах, признаниях, казнях, невозможно было до конца поверить, что Братство – всего лишь миф. Были дни, когда он в него верил, были – когда нет. Не было никаких свидетельств, только мимолётные проблески, которые могли ничего и не значить: обрывки услышанных разговоров, едва различимые надписи на стенах в туалете… Иногда, даже, когда встречались два незнакомых человека, незначительное движение руки, которое выглядело как условный знак. Всё это были только предположения – вполне вероятно, что он всё это придумал. Он отправился в свою кабинку, больше не взглянув на О’Брайена. Идея предпринять какие-либо последующие действия после этого краткого контакта едва ли могла прийти ему в голову. Было бы невероятно опасным, если бы он даже знал, как именно можно что-либо предпринять. Секунду или две они обменивались двусмысленными взглядами, и на этом история заканчивалась. Но даже этот обмен взглядами стал памятным событием в том безысходном одиночестве, где ты вынужден жить.
Уинстон очнулся и сел прямее. Он отрыгнул. Джин поднимался вверх из желудка.
Глаза его вновь сфокусировались на странице. Он обнаружил, что даже сидя и беспомощно размышляя, он продолжал писать, как будто совершая чисто механическое действие. И теперь это был уже не тот прежний неразборчивый, неуклюжий почерк. Его ручка вальяжно скользила по гладкой бумаге, выводя большими аккуратными буквами:
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА,
снова и снова, заполняя половину страницы.
Не почувствовать приступ паники было невозможно. Абсурдно, ведь выводить эти конкретные слова не более опасно, чем в самом начале открыть дневник. И всё же в какой-то момент ему захотелось вырвать эти испорченные страницы и отказаться от всего предприятия.
Однако он ничего не сделал, ибо понимал, что всё бесполезно. Написал ли он ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА или удержался и не написал, – не имело значения. Продолжит ли он дневник или не продолжит, – не имело значения. Полиция Мысли заберёт его в любом случае. Он еще раньше совершил… и так и будет совершать, даже если бы никогда и не коснулся ручкой бумаги, самое главное преступление, которое уже содержит в себе все остальные. Мыслепреступление, так они это называют. Мыслепреступление не такая вещь, которую можно скрывать вечно. Какое-то время можно успешно увиливать, даже годами, но рано или поздно они тебя непременно достанут.
Это всегда происходило ночью… аресты непременно происходили ночью. Тебя внезапно вырывают из сна, грубая рука трясёт тебя за плечо, свет ослепляет глаза, вокруг кровати – суровые лица. В большинстве случает не проводилось никакого расследования, не составлялось никакого протокола задержания. Люди просто исчезали, обычно по ночам. Твоё имя вычёркивалось из всех реестров, любое упоминание о чём-либо тобой содеянном уничтожалось, твое существование во времени отрицалось и затем забывалось. Тебя упраздняли, уничтожали. Ты ИСПАРЯЛСЯ – обычно употребляли именно это слово.
На минуту его охватила своего рода истерика. Он начал выводить торопливыми неаккуратными каракулями:
они меня застрелят но что мне до этого они выстрелят мне в затылок но что мне до этого долой большого брата они всегда стреляют в затылок но что мне до этого долой большого брата…
Он откинулся назад на спинку стула, немного стыдясь содеянного, и отложил ручку. Еще минута – и он задрожал всем телом. В дверь постучали.
Уже! Он сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что, кто бы это там ни был, он может развернуться и уйти после первой попытки. Но нет, стук повторился. Сердце стучало, как барабан, но лицо, по старой привычке, оставалось ничего не выражающим. Он поднялся и медленно направился к двери.
Глава 2
Уже положив руку на ручку двери, Уинстон увидел, что дневник остался на столе открытым. ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА было написано кругом, да ещё такими большими буквами, что они читались из другого конца комнаты. Сделать подобное было невероятной глупостью. Но он понял, что даже в состоянии паники не хочет запачкать кремовую бумагу и закрыть тетрадь, пока чернила ещё не просохли.
Он набрал в лёгкие воздуха и открыл дверь. В тот же момент его захлестнула тёплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, забитого вида женщина с жидкими волосами и морщинистым лицом.
– Ох, товарищ, – начала она отвратительным плаксивым голосом. – Я подумала… я услышала, как вы пришли. Не можете ли зайти и посмотреть, что там с нашей раковиной? Она забилась и…
Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» в некотором смысле осуждалось Партией – считалось, что всех нужно было называть «товарищ», однако с некоторыми женщинами ты инстинктивно использовал именно это слово.) Это была женщина лет тридцати, но выглядела она намного старше. Возникало впечатление, что в морщины на её лице забилась пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Такие самодеятельные исправления неполадок были едва ли не повседневным раздражителем. Дома жилого комплекса «Победа» были старыми; построенные в тридцатые годы или около того, они прямо разваливались на части. Штукатурка с потолков и стен постоянно осыпалась, трубы лопались при каждом сильном морозе, стоило пойти снегу – крыша протекала, отопительная система обычно работала вполсилы, если и вовсе не была перекрыта под предлогом экономии. Ремонты, за исключением тех, которые ты мог сделать самостоятельно, должны были быть санкционированы комитетами, находящимися далеко отсюда, и которые имели обыкновение откладывать года на два даже починку оконной рамы.
– Конечно, это всё из-за того, что Тома нет дома, – сказала невнятно миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и запущенность её была совсем иного рода. Вид у неё был потрёпанный и затоптанный, будто место это только что посетил огромный разъярённый зверь. Спортивное снаряжение для разных игр, как-то: хоккейные клюшки, боксёрские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пропитавшиеся потом и вывернутые наизнанку шорты – всё это валялось повсюду: и на полу, и на столе вместе с грязными тарелками и тетрадками с загнутыми уголками страниц. На стенах висели красные знамёна Молодёжной Лиги и Тайных Агентов, а также плакат с Большим Братом в полный рост. Стоял обычный запах варёной капусты, присущий всему зданию, но через него прорывался резкий запах вонючего пота – характерный запах человека, здесь сейчас не присутствующего. (Понятно это было с первого же вздоха, но непонятно, каким образом это становилось понятным.)
В другой комнате кто-то с помощью расчёски и куска туалетной бумаги старался извлечь мелодию военного марша, которая всё ещё лилась с телеэкрана.
– Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросая боязливый взгляд на дверь. – Сегодня они не выходили на улицу. И конечно…
У неё была привычка обрывать предложение посередине. Раковина в кухне была почти до краёв наполнена грязной зеленоватой водой, которая пахла ещё хуже капусты. Уинстон встал на колено и осмотрел соединявшиеся под углом трубы. Ему было противно трогать всё это руками, и он терпеть не мог наклоняться, так как всегда начинал из-за этого кашлять. Миссис Парсонс беспомощно смотрела на него.
– Конечно, если бы Том был дома, он бы моментально это починил, – сказала она. – Ему нравится этим заниматься. Работа руками – для него, для Тома.
Парсонс был сослуживцем Уинстона в Министерстве Правды. Толстоватый, но очень активный мужчина, обладающий парализующей собеседника тупостью и невероятным количеством идиотского энтузиазма; он был одним из тех преданных трудящихся, от которых стабильность Партии зависит даже в большей степени, чем от Полиции Мысли. В тридцать пять он был, вопреки его собственному желанию, исключён из Молодёжной лиги, однако до окончания Молодёжной Лиги ему удалось остаться в Тайных Агентах на год дольше положенного возраста. В Министерстве его наняли на вспомогательную должность, не требующую работы ума, но он, в свою очередь, был ещё лидером Спортивного Комитета и всех прочих комитетов, занятых организацией массовых походов, добровольных демонстраций, сберегательных кампаний и добровольческой деятельности в целом. Частенько он с гордым спокойствием, выпуская дым из трубки, доводил до вашего сведения, что последние четыре года он каждый вечер появлялся в Общественном Центре. Неотразимый запах пота, своего рода неосознанное признание напряженного образа жизни, который он вёл, следовал за ним повсюду, куда бы он ни пришёл, и даже оставался после его ухода.
– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, возившийся с гайкой на угловом шарнире.
– Гаечный ключ, – повторила миссис Парсонс, немедленно впадая в ступор. – Я не знаю. Не уверена. Возможно, дети…
Послышался топот ботинок и ещё одна сирена на расчёске, ибо в гостиную вошли дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вынул пук волос, блокировавший сливную трубу. Как можно быстрее он вымыл руки холодной водой из крана и вернулся в другую комнату.
– Руки вверх! – прокричал дикий голос.
Красивый, сурового вида мальчик лет девяти выскочил из-за стола, угрожая ему игрушечным автоматическим пистолетом, в то время как его младшая сестрёнка, года на два моложе, таким же жестом нацелилась на Уинстона деревяшкой. Оба были в синих шортах, серых рубашках с красными галстуками – униформа Агентов. Уинстон поднял руки вверх, однако почувствовал себя неловко: в поведении мальчика была такая злоба, что всё это мало походило на игру.
– Ты – предатель, – кричал мальчик. – Ты мыслепреступник! Ты – евразийский агент! Я тебя застрелю, я тебя испарю, я сошлю тебя на соляные копи!
Вдруг они оба запрыгали вокруг него, крича «Предатель! Мыслепреступник!». Маленькая девочка в точности повторяла за братом каждое движение. Было в этом что-то угрожающее, напоминающее забавы тигрят, которые скоро вырастут в тигров-людоедов. Во взгляде мальчика была некая расчётливая свирепость, вполне очевидное желание ударить или пнуть Уинстона и осознание того, что очень скоро он будет достаточно большим, чтобы это сделать. Хорошо ещё, что пистолет, который он держит, не настоящий, подумал Уинстон.
Взгляд миссис Парсонс нервно перебегал с Уинстона на детей и обратно. В гостиной, при более хорошем освещении, он с интересом отметил, что в морщинах на её лице действительно застряла пыль.
– Они, и правда, такие шумные, – сказала она. – Они расстроены, что не могут пойти посмотреть, как там будут вешать, всё из-за этого. У меня слишком много дел, чтобы их повести. Да и Том вовремя не придет с работы.
– Почему мы не можем пойти и посмотреть, как будут вешать? – взревел мальчик невероятно громким голосом.
– Хотим смотреть, как вешают! Хотим смотреть, как вешают! – припевала маленькая девочка, припрыгивая вокруг них.
Уинстон вспомнил, что вечером в парке должны быть повешены несколько евразийских заключённых. Такие вещи происходили раз в месяц и были популярным зрелищем. Дети всегда громко требовали, чтобы их туда брали посмотреть. Уинстон вышел от миссис Парсонс и направился к своей двери. Но он не сделал по коридору и шести шагов, как затылок его пронзила невыносимая боль. Казалось, что в него вонзили раскалённую докрасна проволоку. Он обернулся и успел заметить, как миссис Парсонс затаскивает сына обратно в квартиру, а тот прячет в карман рогатку.
– Голдстейн! – вопил ребенок, пока за ним не закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразил беспомощный страх, отразившийся на сероватом лице женщины.
Вернувшись в квартиру, он быстро прошёл мимо телеэкрана и снова сел за стол, продолжая потирать шею. Музыка с телеэкрана прекратилась. Вместо неё надтреснутым голосом военного, с неким человеконенавистническим удовольствием, читали описание вооружения новой Плавучей Крепости, которая только что встала на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
С такими детьми, подумал Уинстон, эта несчастная женщина, наверное, живёт в постоянном страхе. Ещё годик-два, и они будут денно и нощно выискивать в ней симптомы антиортодоксальности. В наше время почти все дети ужасны. Ужаснее всего то, что с помощью таких организаций, как Агенты, они систематически превращаются в неуправляемых маленьких дикарей, но при этом у них не появляется склонности к какому-либо протесту против партийной дисциплины. Напротив, они преклоняются перед Партией и перед всем, что с ней связано. Все эти песни, марши, знамёна, походы, тренировки с винтовками на манекенах, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – всё это для них, в некотором роде, славная игра. Вся их жестокость направляется во внешний мир, против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, идейных врагов. Стало вполне естественным, что люди, которым за тридцать, боятся своих собственных детей. И на то есть причины: не проходит и недели, чтобы «Таймс» не напечатала заметки о том, как какой-нибудь маленький доносчик – «ребенок-герой», как они обычно его называют, – подслушал некое компрометирующее замечание и донес на своих родителей в Полицию Мысли.
Жжение от выпущенной из рогатки пули прошло. Уинстон без особого энтузиазма взял ручку, раздумывая, что бы ещё записать в дневнике. Внезапно он опять подумал об О’Брайене.
Несколько лет тому назад… как давно это было? Должно быть, тому назад лет семь, ему приснилось, будто он идёт по комнате средь кромешной темноты. И кто-то, кто сидит в стороне от него, когда он проходит, говорит ему: «Мы встретимся в месте, где нет тьмы». И сказано это было очень спокойно, почти буднично; простое утверждение, не команда. Он прошёл дальше, не остановившись. Любопытным здесь было то, что в то время, во сне, слова не произвели на него впечатления. И только позднее ему постепенно стало казаться, что они приобрели значение. Он не помнил, когда именно, до этого ли сна или после него, он впервые увидел О’Брайена. Не помнил он также, когда он впервые услышал голос О’Брайена. Но в любом случае, узнавание состоялось. О’Брайен был тем, кто говорил с ним в темноте.
Уинстон никогда не был абсолютно уверен, что прав; даже после того утра, когда их глаза встретились, невозможно было сказать наверняка, был О’Брайен другом или врагом. Да это, казалось, и не имело особого значения. Между ними была связь взаимопонимания, более важная, чем привязанность или партнёрские отношения. «Мы встретимся в месте, где нет тьмы», – сказал он. Уинстон не знал, что это означает; он только знал, что так или иначе, но это сбудется.
Голос на телеэкране прервался. Звук трубы, ясный и красивый, проплыл в застоявшемся воздухе. Голос грубо продолжил:
«Внимание! Пожалуйста, внимание! Срочные новости только что поступили с Малабарского фронта. Наши вооружённые силы в Южной Индии одержали доблестную победу. Я уполномочен заявить, что то, о чём мы сейчас сообщаем, может привести войну к концу в ближайшем будущем. А теперь экстренное сообщение…»
Пойдут плохие новости, подумал Уинстон. Так и было, следом за кровавым описанием уничтожения евразийской армии, с огромным количеством убитых и взятых в плен, пошло объявление, что со следующей недели рацион шоколада сократится с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова рыгнул. Джин выходил, оставляя чувство пустоты. Телеэкран, то ли празднуя победу, то ли заглушая воспоминание об утраченном шоколаде, грянул «Океания, это для тебя». Предполагалось, что ты встаешь, весь во внимании. Однако в теперешнем его положении он не был виден.
«Океания, это для тебя» уступило место более лёгкой музыке. Уинстон подошёл к окну, продолжая держаться спиной к телеэкрану. День по-прежнему был холодным и ясным. Где-то вдалеке с унылым гулким рёвом разорвалась ракета. Теперь на Лондон падают примерно двадцать-тридцать таких ракет в неделю.
Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, вертя его из стороны в сторону, и слово АНГЛОСОЦ то резко появлялось, то исчезало. Англосоц. Священные принципы Англосоца. Новояз, двоемыслие, видоизменяемость прошлого. Он чувствовал себя так, будто он бродит по лесу на морском дне, заблудившись в мире чудовищ, где и сам он – такое же чудовище. И он один. Прошлое мертво, будущее невообразимо. Какая может у него быть уверенность, что хоть одно живое существо на его стороне? И как узнать, что власть Партии не будет длиться ВЕЧНО? Как ответ на эти вопросы вернулись к нему три лозунга на белом фасаде Министерства Правды:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА
Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. Там тоже на одной стороне маленькими буквами были выведены те же самые лозунги, а на другой – голова Большого Брата. Даже с монеты его глаза преследовали тебя. На монетах, на марках, на обложках книг, на знамёнах, на плакатах, на обёртках сигаретных пачек – они были везде. Эти глаза всегда следили за тобой, а этот голос тебя обволакивал. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или ешь, в ванной ты или в кровати – тебе от него не уйти. У тебя не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа.
Солнце начинало садиться, и мириады окон Министерства Правды, теперь не отражающие его свет, выглядели мрачными амбразурами крепости. Сердце Уинстона затрепетало от страха перед этой огромной пирамидальной формой. Она слишком крепка, чтобы можно было взять её штурмом. Её не разрушат сотни управляемых ракет. Он снова задумался над тем, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого, для эпохи, которая, возможно, существует лишь в воображении. А впереди у него – не смерть, а уничтожение. Дневник его будет превращён в пепел, а он сам – в пар. Только Полиция Мысли, перед тем как они сотрут его из существования и из памяти, сможет прочитать то, что он написал. Как можешь ты воззвать к будущему, когда от тебя физически не останется ни следа, ни даже одного анонимного слова, нацарапанного на клочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать. Через десять минут он должен уйти. Ему нужно быть на работе в четырнадцать тридцать.
Как ни странно, бой часов, казалось, придал ему силы. Он – одинокий призрак, провозглашающий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет её провозглашать, каким-то непонятным способом, связь в мире не прервётся. Задача не в том, чтобы тебя услышали, а в том, чтобы осознавать, что ты несешь в себе наследие человечества. Он вернулся к столу, окунул ручку в чернила и написал:
В будущее или в прошлое, во времена, когда мысль свободна, когда один человек отличается от другого и не живёт один… во времена, когда правда существует и когда сделанное не может быть отменено:
Из эпохи единообразия, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата и двоемыслия… Мои приветствия!
«Я уже мёртв», – подумал он. Ему показалось, что только сейчас, когда он начал, когда оказался способным сформулировать свои мысли, только сейчас он предпринял решительный шаг. Последствия каждого действия включены уже в само действие. Он написал:
Мыслепреступление не влечет за собой смерть – мыслепреступление – ЭТО И ЕСТЬ смерть.
Теперь ему, после осознания себя как мёртвого, стало важным оставаться живым как можно дольше. Два пальца на правой руке у него были испачканы чернилами. Именно такая деталь может его выдать. Какой-нибудь всё вынюхивающий фанатик в Министерстве (возможно, женщина; типа той маленькой, с волосами песочного цвета, или темноволосая девушка из Департамента Беллетристики) может задуматься, почему это он писал во время обеденного перерыва, почему это он пользовался старомодной ручкой, ЧТО это он писал, – а потом намекнуть ненароком в соответствующем месте. Он отправился в ванную и тщательно соскрёб чернила с помощью жёсткого тёмно-коричневого мыла, которое скребло кожу как наждачная бумага и как раз отлично подходило для этой цели.
Дневник он убрал в ящик. Бесполезно было думать о том, чтобы его спрятать, но проверить, узнали или нет о его существовании, он мог. Волос, положенный в конце страницы, был слишком заметен. Кончиком пальца он поддел неразличимую крупицу беловатой пыли и поместил её на угол обложки, где её непременно стряхнут, если будут передвигать тетрадь.