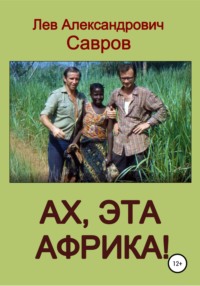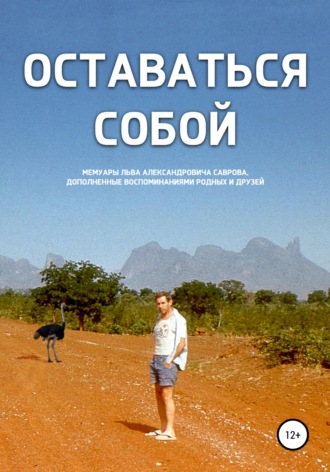
Полная версия
Оставаться собой

ОТ АВТОРОВ
Эта книга – воспоминания родственников, друзей, коллег и сослуживцев о Саврове Льве Александровиче, человеке удивительной судьбы, прожившем яркую, интересную и насыщенную увлекательными событиями жизнь. Он был ведущим специалистом в Государственном астрономическом институте им. Штернберга в Отделе гравитационных измерений. Более десяти лет он преподавал физику и математику в трех африканских государствах, побывал с научными экспедициями в Европе, Мексике, Бразилии, был награжден орденом за заслуги перед Центральноафриканской Республикой и титулом шевалье. Кроме научных исследований занимался писательской и переводческой деятельностью.
К сожалению, он ушел от нас в июле 2019-го года, успев написа́ть последние мемуары, но не успев их опубликовать. И мы – друзья и родственники – решили это сделать за него, дополнив его воспоминания своими рассказами, впечатлениями и интересными эпизодами из его жизни.
Он ушел – но осталась Память, и мы сделали всё, чтобы эта Память сохранилась в сердцах всех тех, кто его знал. Ибо человек жив, пока его помнят.

ИЗ ПИСЬМА К СЫНУ
«Сослагательного наклонения в жизни не существует, и “если бы да кабы” – это удел слабых и рефлексирующих. Я тоже, может, хотел бы в свое время поменять приоритеты, но вовремя понял, что стремление к известности и желание показать всем, какой ты крутой – чушь собачья. Просто надо оставаться самим собой, и, при всей вроде бы обыденности текущей жизни, постараться создавать для себя результаты того, что просит творческая часть души человека, если эта часть, да и сама душа, конечно, у него присутствуют».
САВРОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вроде как жизнеописание (фрагменты и ассоциации)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мои родственники постоянно просили меня сотворить мемуар, поскольку, видите ли, у меня получаются вполне приличные художественные опусы. Ну да, в какой-то момент жизни меня охватил писательский зуд и, признаться, с удивлением узнал, что народу понравилось. Затем энтузиазм поутих, так как выяснилось, что совсем не могу творить, как говорится, в стол. Должен увидеть книгу изданной, а уж потом начинать другую. И, в общем-то, задуманное получилось: всё что написал к этому моменту, издано. А тут я к тому же осознал, что мне осталось не так уж много времени на этом свете и, по существу, я уже самый старый в нашем многочисленном семействе и ещё кое-что помню о наших предках, жизнь которых была интересной, разнообразной и во многом трагичной.
Так что, получите, если успею, и распишитесь в получении.
ГЛАВА 1
САМ С УСАМ (ДЕТСТВО НА МАЛОЙ РОДИНЕ)
Я родился 31 октября 1937 года в разгар сталинских репрессий. Впрочем, для нашей семьи это уже было неважно, поскольку моего деда убили в концлагере за четыре года до этого, а его старшему брату, подорвавшему здоровье из-за гражданской войны, плена и тюрем, оставалось жизни в архангельской ссылке всего два года.
Как известно, отсидевшим в тюрьмах и отбывших ссылку, в тридцатые годы в Москву и Питер въезд на жительство был закрыт, вот почему они кучковались в соседних областях Центральной России и, в частности в Ярославской. Ну а у наших предков был к тому же свой стимул оказаться в замечательном городе Рыбинске, о чём я расскажу в главе им посвящённой.
Почему Рыбинск замечательный, спросит читатель. По нескольким причинам. Во-первых, потому что Москве перед грядущей Второй мировой войной нужна была близкая, надёжная и дешёвая электроэнергия. Во-вторых, после возведения длиннющей плотины высотой тридцать метров и образования огромного Рыбинского моря, город стал намного красивее смотреться в окружении нового пейзажа: правый (по течению) берег приобрёл в дополнение к старому купеческому центру со зданием товарной биржи, величественным собором с колокольней и высоченной из красного кирпича пожарной каланчой на заднем плане (всё это на крутом берегу) новые в техно стиле только что отстроенные корпуса авиамоторного завода с огромным помпезным Дворцом Культуры. В-третьих, после пропуска основного русла Волги через шлюз двадцатиметровой высоты, а её притока Шексны через сброс под зданием ГЭС, у жителей города началась совсем другая жизнь на великой реке (ведь моста-то через Волгу тогда не было). В-четвёртых, потому что в Рыбинске на свет появился я.
Скромненько, не так ли? Конечно, каждый человек уникален, хотя его появление на свет определяется набором достаточно случайных величин. А дальше вступают в действие совсем другие механизмы. На закате своей жизни мама спросила меня: «Почему ты у нас такой умный?» Я ответил: «Потому что ты красивая, любишь жизнь и людей. А я не гений – и это замечательно». «Нет, – сказала мама, – я не была красивой, но всегда была чертовски мила».
Главное, по-моему, в моей «сам с усамости» – два основных качества: если я ставил перед собой большую цель в решающий поворотный момент жизни, я всегда её добивался; и всегда шёл против толпы, потому что ненавижу её в любых проявлениях. Наличие этих качеств я выяснил в глубоком детстве с тех пор, как стал ощущать себя личностью.
А ощущать начал через неделю после рождения, когда меня из роддома перевезли на пароходике в Заволжье на посад, где в частных домах с садами и огородами жила почти половина населения города. Мы обретались по адресу Ленинградская улица, дом 4 (на этой тихой грунтовой улице, поросшей гусиной травкой, стояло всего четырнадцать домов по семь с каждой стороны), снимая кухню с громадной русской печью в пятистенном рубленом домике, владелицей которого была старая интеллигентная одинокая учительница.
В кухне, подвешенная под потолок, меня ожидало произведение искусства – сделанная на заказ шикарная люлька, украшенная голубыми бантами, устланная белыми простынями с кружевами и с новеньким ночным горшком под ней с намёком на будущее. В этой люльке я не пролежал и часа. Как только меня в неё укладывали, я начинал дико орать без остановки. Выяснилось, что совершенно спокоен и весел и сплю, как убитый, на большом кухонном столе, который и стал моим жилищем на первый год жизни. Рассказана история была мне много лет спустя Соней Рождественской, подружкой мамы и кузиной моего друга детства и всей жизни Кирилла Градусова, и тётей Аллой (мама Андрея Саврова), которая жила тогда с нами. Вот три девчонки (маме 19, Алле и Соне 15) и нянчились с этим «сам с усам». Всю жизнь я пытал маму, почему она назвала меня Лев, но она так и не призналась.
К двухлетнему возрасту я успел походить в детский сад. Бабушка Лида, будучи к тому времени главным бухгалтером городского треста бань и парикмахерских, подрабатывала ещё и в детском саду счетоводом: сталинские зарплаты были нищенскими. Её работа счетоводом спасла нас в голодные годы войны, потому что ей полагался обед, а она вместо него эквивалентом приносила домой пайком сливочное масло и сахар; овощи нам обеспечивал огород. Вот в этот детский сад в километре от дома меня и определили. Деталей не помню.
А зимой я заболел жуткой малярией. Температура под сорок, трясучка и лекарства не помогают. Бабушка повезла меня на санках по льду через Волгу в больницу. Больницу помню, я в забытьи, вокруг какие-то белые фигуры, а у меня видения: бесконечное пространство вселенной, в котором параллельно друг другу перемещаются трёхмерные слои вещества, а я пузырём плаваю среди них. С тех пор при такой температуре и забытьи у меня всегда возникает эта картина.
Из больницы нас отправили домой, сказав бабушке: «Забирайте, он не жилец». Бабушка вспоминала: «Тащу санки по скользкому голому льду, реву в варежку, а у тебя даже дыхания не видно». Дома прибежали сердобольные соседки и буквально велели волочь меня к известной в Заволжье бабке знахарке, всё равно хуже не будет.
Поволокли. Бабка шептала наговоры, потом надела мне на шею ладанку и сказала: «Идите. Бог даст, оклемается». Вот тогда бабушка Лида дала себе обет, если выкарабкаюсь, то она меня окрестит. Ладанку она сохранила, и много десятилетий спустя я её раскурочил, в ней оказалась ртуть, видимо, жёстко оттянула внутреннее воспаление. История же с крещением, как всё у меня, получилась нестандартная, но об этом потом. Так что я пошёл на поправку и к весне про малярию забыл. Но перестал ходить, только ползал с бешеной скоростью.
Ползунком меня снова в июне и закинули в тот же детский сад. В первый же день «сам с усам» из детского сада сбежал. Перепуганные воспитательницы догнали меня на полпути к дому, ползущего по самой середине пыльной проезжей дороги точно по направлению домой. Вот это было веселье. Какое-то время за мной приглядывали персонально.
К четырём годам, благодаря пайку бабушки Лиды и виртуозным кулинарным способностям прабабушки Ани, я превратился в крепенького мальчика – боровика, способного выстоять в драке минимум против троих сверстников, сам не лез, но спуску не давал. Это качество в то время в Заволжье было наиважнейшим. Пацаны дали мне кличку «Боб». Снова ходить, плавать, кататься на лыжах и коньках я начал одновременно, даже не помню процессов обучения, это происходило само собой.
Тут и грянула война. Мы тогда жили втроём, прабабушка Аня, бабушка Лида и я. Хозяйка дома уже умерла, и бабушка выкупила домик по скидке, поскольку была уважаемым человеком у городских властей. Всё равно пришлось продать оставшиеся ценности: ножную машинку «Зингер», бобровую шубу прабабушки и последние крохи фамильного серебра.
Осенью сорок первого в небе над Рыбинском разгорелись грандиозные ночные воздушные бои из-за плотины и ГЭС. Немцы пытались их раздолбать, наши – защитить. Немереное количество зениток и прожекторов против армады бомбардировщиков. Каждую ночь. Никаких щелей в огороде мы не делали, я просто лежал в кровати, а бабушки сидели рядом. «Если попадёт бомба, – говорила бабушка Лида, – или на город налетит двадцатиметровая волна, лучше погибнуть всем вместе». Повезло, ни бомбы вблизи от нас ни волны, а вот фашистов сбивали довольно часто, и я каждый раз орал «Ура!», пока не засыпал под канонаду. После битвы под Москвой у нас всё кончилось, и до конца войны город был мирным.
Детство моего поколения в военные и послевоенные годы прекрасно описано в эссе «Родное» моего друга всей жизни Кирилла Градусова. Она находится на моей книжной полке у рабочего стола, желающие могут брать почитать, может, у кого-то хватит сил оцифровать её и сделать электронный вариант. В книге написано довольно много и про меня. Так что не буду рассусоливать, а ограничусь фрагментами биографии лично для меня интересными.
Население Заволжья состояло тогда из рабочих, вкалывающих на заводах на той стороне реки, крестьянок – жён рабочих, целыми днями непрерывно ухаживающими за скотиной и птицей на подворье, и микроскопической прослойки репрессированной интеллигенции, которая работала на той стороне, а здесь снимала дешёвые комнаты в частных домах. Немногим, как нам, повезло заиметь свой дом после пятнадцати лет съёмного жилья. Кроме перечисленного, попадались вкрапления среднего класса и мелкой номенклатуры.
Соответственно, детские и подростковые компании, расслаивающиеся, в основном по возрасту, делились на три чётко выраженные социальные группы. Первая, самая многочисленная, – хулиганьё в детстве, шпана в подросте и бандиты к 18-ти годам. Родители, рабочие и крестьяне, мечтали, чтобы их оболтусы не сели в тюрьму до призыва в армию, откуда они возвращались нормальными, сразу женились и шли на заводы, где работали их отцы. Вторая группа, довольно многочисленная – дети среднего класса и номенклатуры, вполне адекватные приличные и общительные, в этой группе было много девочек. Третья – дети семей репрессированных, воспитанные и образованные, дружившие, в основном, между собой. Их было немного. Разумеется, были случаи взаимного общения и контактов между группами. И редко кто-то, например, как Кирилл и я, постоянно общались с контингентом всех трёх групп. Нужно учесть, что в школах учились все вместе, термина спецшкола не существовало, школьной формы тоже не было. Последний вариант отношений – личная дружба, независимо от клана, такая как у меня с Кириллом и у меня же с представителем среднего класса удивительным Валеркой Перемутовым, о чём скажу ниже.
Группировки хулиганья и шпаны взрослели поколение за поколением, старшие учили младших воровать и нападать на пьяных мужиков стаями и пр., используя методы кнута и пряника в виде игры в карты на интерес и в долг. Именно с тех пор я ненавижу блатные карточные игры и прохладно отношусь ко всяким «ап энд даун» и другим подкидным дуракам, хотя за границей целый сезон в своей международной компании играл в спортивный бридж, а также освоил французский белот и обучил ему Машуню и Антонина. Тоник, по-моему, всю жизнь в него играет с друзьями, благо это игра не на деньги.
Шпана пыталась и меня втянуть в этот тренинг, но «сам с усам», как всегда, был против толпы, тем более что воспитывался на книгах, бабушкиных рассказах и музыкальных вечерах в доме Рождественских, живших напротив. Об этом замечательно написано в эссе Кирилла. К тому же у меня была защита в лице компании Кирилла, которые были на два года старше и могли отлупить кодлу моих сверстников. Вспоминаю такой факт: Кирилл пришёл ко мне один, мы играли во дворе в войну, а разведчики шпаны углядели, свистнули всю шайку, и они расположились на улице напротив наших ворот, взяв нас в осаду, радуясь, глумясь и провоцируя выйти на «честный» бой. Пёс мой Булька был злющий и кусачий, только если кто-то, нарушив границу, проникал во двор, а на улице превращался в добрую и ласковую шавку; на него было рассчитывать нечего. Я наблюдал, как Кирилл постепенно доходил до бешенства, сам заражаясь от него этой отчаянностью, когда сам чёрт не брат. И вот, схватив плётки из проволоки, мы вылетели из калитки, как из катапульты, кинувшись в самую гущу банды. Как они бежали! Мы гнались за ними метров сто, хлеща отстающих плётками по ногам. Я хорошо усвоил этот урок, он не раз потом пригодился мне в жизни. Важно оценить размер толпы, чтобы знать, когда нападать первым или убегать без оглядки. Кстати, с тех пор я регулярно вместе со шпаной играл в футбол и участвовал по вечерам в запекании и поедании картошки в вечерних костерках, разводящихся на берегу Волги, называемых «палюшками» (от слова запалить).
А теперь поговорим о моём самом близком приятеле с точки зрения препровождения времени вместе Валерке Перемутовым, которого все звали просто Перемут. Он жил на нашей улице через дом дальше по этой же стороне, но проводил почти все летние дни у меня, поскольку его жилое строение представляло из себя огромную домовину с мезонином, настоящую «Воронью слободку» (см. Ильф и Петров «Золотой телёнок»), в которой жило минимум семейств шесть. Кроме кучи детей мал-мала меньше, в этом гадючнике, ничего не было, а вот в пристройках, кладовках, чуланах и чердаке нашего домика, в ларях, плетёных корзинах полутораметровой высоты и многочисленных старинных шкафах со стеклянными дверцами каких, с нашей точки зрения, сокровищ только не было.
Перемут в образовании был тупой. На год старше меня, он пошёл в первый класс школы, естественно, годом раньше. Оставшись на второй год, отучился ещё раз в первом классе вместе со мной, а затем, когда я перешёл во второй класс, повторил первый ещё раз, только тогда его со скрипом перевели, наконец, во второй. Но по практической сметке я никого из окружающих меня тогда детей и рядом поставить не могу. Обследовать углы, порыться в свалках, закоулках чужих дворов и обязательно найти что-нибудь, годное пустить в дело, сдать в пункт приёма вторсырья, выгодно втюхать доверчивым мальчишкам и девчонкам – вот его стихия! Я представлю несколько эпизодов, связанных с ним, чтобы показать незаурядность этого пацана.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ
Мне четыре года, ему пять. Я почти на голову выше и в два раза крепче. Давно умею плавать, а он нет.
– Научи меня, наконец, плавать, – требует он.
– Ладно, – отвечаю я, – только это будет жёсткий вариант.
– Мне всё равно.
– Тогда пошли на котлован.
До войны в Рыбинске хотели всё же построить мост, и с нашей посадской стороны заключённые вбили в дно реки вереницу опорных железных свай и в продолжение этого ряда на нашем же берегу вырыли огромный и глубокий котлован с крутыми стенами, который при высокой воде, сбрасываемой из водохранилища, заполнялся почти полностью. Вода в нём была значительно теплее проточной волжской. Поэтому купальный сезон мы всегда открывали там. Стройку, конечно, забросили, в сиротливом котловане голодала заброшенная спускаемым валом воды рыба, хватавшая даже пустой крючок, и квакали немереные колонии лягушек.
Мы с трудом спустились по крутому откосу к кромке воды, которая тускло светилась жирным малахитом, жуткая глубина ощущалась уже в метре от края глинистого берега.
– Снимай штаны и рубашку, – сказал я.
Как только он стянул рубаху через голову, я резким толчком отправил его в эту глубину. Он вынырнул, отплёвываясь, и стал тонуть, пуская пузыри. Я прыгнул в воду и вытащил его на сушу.
– Отдышался?
– Вроде да, – ответил он, кашляя.
– Тогда валяй дальше, да шевели лапами.
И я столкнул его в воду снова. На пятый раз он приплыл к берегу по-собачьи сам.
– Вот и научился, пошли ко мне, пожрём, бабушка Аня пироги с морковкой испекла.
– Это здо́рово, – заметил он спокойно, – обожаю пироги с морковкой.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Июль, жара. Мне шесть лет, ему семь. Мы на нашем берегу валяемся на песчаном пляже, лень даже пальцем пошевелить. Я совершенно обгорел со своим красным загаром, спина болит, а ему, смуглому, хоть бы что. Кстати, нашёлся способ лечения ожогов. Увидев мою спину, баба Лида обмазывала всего меня сметаной. Не успевала она удалиться, тут же подскакивал Булька и начисто слизывал с меня всю сметану. Язык у него, видимо был целебный, сразу становилось легче. Баба Лида удивлялась куда так быстро исчезала сметана и снова обмазывала меня. Булька тоже только того и ждал. Подвергшись операции намазывания и слизывания, обычно на следующий день моя кожа приходила в норму до следующего сгорания.
Итак, жарища и полная лень. Пора развлечься.
– Перемут!
– А?
– Жуй слона! Давай переплывём Волгу.
– Давай, – спокойно отвечает он.
– Из наших вроде никто ещё этого не делал.
– А на фига им.
– Вот мы и будем первыми.
В одних трусах мы бредём к грузовой переправе и проникаем на паром, спрятавшись за здоровенным возом сена. Паромщику и матросу-чальщику, впрочем, в такую жару тоже всё до лампочки. С парома-то мы уже нырять приловчились. Спрячемся среди возов, подождём, пока он отойдёт метров на двести от нашего берега, а потом с гиканьем и хохотом выскакиваем и сигаем с борта в Волгу, выгребая затем к нашему берегу. Ещё было удалью встречать паром с того берега. Он идёт быстро, надо рассчитать его и свою скорость так, чтобы выплывая ему навстречу, не промахнуться и точно попасть на деревянное рулевое перо и успеть за него зацепиться. Паромщик матерился, но поделать ничего не мог: мы отцеплялись метров за пятьдесят до причаливания.
Мы переправились на тот берег и пошли вверх по течению почти до завода «Рыбинские моторы», прикинув, что течение собьёт нас как раз к нашему пляжу.
Ну, и переплыли спокойненько. И никому об этом не стали говорить. Чего хвастаться, нам хватило того, что мы сделали.
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ
Перемут каким-то образом надыбал в самом углу нашего чердака почти под застрехой громадную трёхрожковую бронзовую люстру непомерной тяжести. Ума не приложу, как это чудовище оказалось на нашем чердаке, зарытое в чистейший речной песок, которым был засыпан чердак. Даже в самые жаркие июльские ночи песок был прохладным, и мы с бабушкой Лидой ночевали на чердаке, бросив на песок вместо матраца старое ватное одеяло.
– Это сто́ит хороших денег, – заявил Перемут, – но придётся поработать.
– Мы подохнем, пока сумеем сдвинуть её с места.
– Что-нибудь придумаем, – деловито бросил он. Его мысли уже шурупили в нужном направлении.
Не буду утомлять деталями, но, как ни странно, мы сумели вытащить этот агрегат с чердака и спустить его по лестнице в заднюю пристройку, выломав всего-то две балясины из балюстрады чердачной лестницы. Перемут прикатил из своего двора двухколёсную тележку, на которой мы и доставили пудовую блямбу в приёмный пункт вторсырья, которым, кстати, заведовал дядя Петя Голованов, живущий с многочисленным семейством в хоромах наискосок от нас под номером один в начале улицы. Его средняя дочь Наташка была моей боевой подругой до самой школы. У них в гостиной стояло даже пианино. А какие вишни давал их сад!
Две недели мы с Перемутом на вырученные деньги объедались мороженым.
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ
Август. Жара не спадает. В те времена у нас климат был континентальный, зимой морозы доходили иногда до минус сорока, а летом часто и подолгу бывало плюс тридцать с хвостиком.
Я пришёл от Кирилла, там мы мастерили с ним шпаги, перевязи и костюмы мушкетёров, готовясь к великой дуэли с гвардейцами кардинала Ришелье.
– Иду на огород сорвать укропчику и лука, – говорит мне прабабушка Аня, – а он уже копается в сарае, как землеройка какая-то. И когда только успел пробраться, Булька же молчал.
– Бушка, он собаку давно прикормил, а уж проникать незаметно куда угодно умеет лучше любого разведчика. И ведь никогда ничего не прикарманит, всегда покажет свою находку.
Я, кстати звал её Бушка, а бабушку Ли́ду часто просто Лиду́, именно так, с буквой «у» на конце имени. Ну, сокращенно от Лидусь, как ее звала Бушка.
В этот момент на пороге кухни появился Перемут, показав пустые ладони. Это означало, что не попалось ничего достойного внимания.
– Пошёл «огурец», – слегка торжественно заявил он.
– Ого! – воскликнул я. – Когда пойдём?
– После обеда, лучше часиков в пять, солнце пониже, будет хорошо видно.
– Бушка, дай нам чего-нибудь пожевать, не обязательно от пуза.
– Можно и от пуза, – поправил он, – в воде быстро остынем.
«Огурцом» у нас называли замечательную рыбку снеток, пяти сантиметров в длину, прозрачную с чёрными глазами бусинками. Называли так из-за запаха: только что вытащенная, она действительно пахла свежим огурцом. В определённое время она появлялась большими стайками и легко ловилась сеткой, если знать места и способ. Зажаренная на сковороде в подсолнечном масле, она давала полное ощущение, будто ешь мелкую вермишель.
В сороковые годы Волга в районе города была невероятно загружена и захламлена. Помимо двух переправ – пассажирской и грузовой – и колёсных пароходов дальнего действия, между берегами сновали десятки маломерных судов, разных катеров, катерков, буксиров, швертботов и яхт, принадлежащих спортивным обществам и пр. Прибавьте появившееся после 1943 года изрядное число немецких железных самоходных барж, а также огромные длинные плоты брёвен сплавного леса, прогоняемые через шлюз из водохранилища, многие из которых неделями стояли на якорях обычно у нашего более мелководного берега.
Впрочем, для нас мальчишек это было раздолье, чего только не выдумаешь, используя такие возможности для разнообразных забав. Для ловли снетка у нас с Валеркой было своё заветное место: выше по течению от грузовой переправы немецкая баржа, приткнутая наискосок носом к берегу на вечную стоянку, вот у её бортов и ходили стаи снетка.
У наших посадских мужиков для ловли рыбы было сотни две лодок, замкнутых у причалов цепями на навесных замках. На корме каждой лодки стоял кронштейн, на верхнем конце которого для ловли крепилась сеть на тросе, проходящем через ролик. С помощью рукояток сеть опускалась на дно и через какое-то время её быстро вытаскивали, ожидая, удачный ли будет улов в мутной воде. Крепёжные дуги сети бывали до трёх метров в размахе, солидная площадь охвата. Назывались такие сети «паут».
Ручная копия подобного «паута» была и в распоряжении запасливого Перемута. Работали мы парой так: загонщик вкругаля тихо подплывал к корме баржи, там становился на дно и гнал стайку к берегу вдоль баржи на сеточника, который держал сетку под водой. В нужный момент сеть резко выдёргивалась и рыбки ссыпались в ведро. Меняясь местами, мы за полчаса набрали полнее ведро.
– Идём к тебе, повеселимся точно от пуза, – сказал он.
– Может, поделим пополам, – предложил я.
– Ну его на фиг, набегут оглоеды, всё сожрут и спасибо не скажут, а твоих бабок рыбкой не грех побаловать, к тому же твоя прапра готовит обалденно.
В общем, вечером был пир до отпаду.
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ