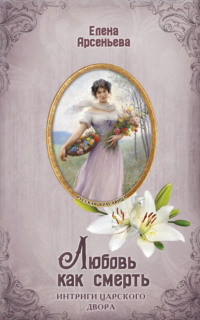Полная версия
Заморская отрава
– Ми-ле-но-чек! – произнесла, нет, провыла, а вернее, промычала Мавруха с неописуемым выражением сладострастия. – Черногла-азень-ки-ий!..
И, взметнув подол своего замызганного сарафанища, она метнулась, простирая руки, к приблизившемуся тем временем возу, на самом верху которого по-прежнему возлежал оборванец с удивительными черными очами – дон Хорхе Сан-Педро… или как его там, Данька со страху позабыл.
При виде иноземца Никодим Сажин покачнулся так резко, что Даньке почудилось, будто злодей прямо сейчас грянется замертво. Однако негодяй оказался крепок что нутром, что статью. Воззрившись на нового свидетеля своих преступлений, он снова истошно завопил:
– Слово и дело! Слово и дело государево!
Человек, к которому эти выкрики имели самое непосредственное касательство, а именно – государь русский, с мученическим видом покачал головой. Было совершенно ясно, что эта затянувшаяся невнятица и суматоха его изрядно утомили.
– Твой ли это человек, Алексей Григорьевич? – обратился он к старшему Долгорукому, кивком указывая в это время на Сажина.
– Мой, ваше императорское величество, – поклонился тот, приложив руку к груди.
– Ну, коли твой, тебе, князь, и разобрать, чья в чем вина.
Никодим, по-бычьи нагнув голову, ринулся вперед и рухнул на колени перед Долгоруким:
– Князь-барин, сам знаешь, мы твои верные холопы. Оброк исправно платим, барщину обрабатываем. Всякий лишний грош отдаем твоей милости. А эти двое в сговоре задумали меня последнего достатку лишить – чтоб я не имел даже самой малости тебе, отец наш, отдать. Ночевальщиками представились, а когда весь дом уснул, пошли с ножами грабить да насильничать…
– Ну, ты лихо с ними расправился, Никаха, – насмешливо перебил его молодой Долгорукий. – Малец еле на ногах держится, а этот… этот и вовсе будто только что из могилы восстал!
Он указывал на Хорхе, который тем временем кое-как сполз с воза и, шатаясь при каждом шаге, что былина на ветру, пытался одолеть те несколько шагов, которые отделяли его от Никодима, причем черные глаза его горели уже знакомой Даньке ненавистью. Остальные невольно попятились, а Никодим Сажин, на которого и был устремлен этот взгляд, даже руками загородился, словно обожженный кипящей смолой.
– Изыди, сатана, – прошептал он, пытаясь сотворить крестное знамение. – Чтоб тебя черти на том свете на сковородке жарили!
– Полагаю, они будут жарить тебя, презренный негодяй, вор, палач! – произнес Хорхе еще слабым голосом, но с такой убийственной силой ненависти, с таким благородством выражения, что взгляды господ невольно обратились на него не с недоверием или презрением, а даже с неким подобием уважения. – Ваше императорское величество, сей гнуснейший человек предательски убивал людей, имевших неосторожность воспользоваться его гостеприимством, а потом хоронил их в лесу, скрывая следы своих многочисленных преступлений. Свидетельствую, что его жертвами стали трое моих спутников, а также родители этого несчастного юноши. Он и я – мы спаслись только чудом. Негодяй, впрочем, не только убийца, но еще и клеветник. Клянусь честью дворянина, честью рода, к которому принадлежу, что ни я, дон Хорхе Сан-Педро Монтойя, ни мой молодой спутник и пальцем не тронули его распутной дочери. Кроме того, он вор. Я сам ограблен им. Похищено восемь тысяч золотых песо, которые везли я и мои спутники для передачи испанскому посланнику при вашем, великий государь, дворе, – герцогу де Лириа.
– Де Лириа? – воскликнули в один голос император и Иван Долгорукий, а князь Алексей Григорьевич простонал едва слышно:
– Восемь тысяч золотых?!
– Именно так, – кивнул Хорхе. – Я имел к герцогу разного рода поручения от короля и господина моего Филиппа. Однако вместе с деньгами были украдены и все документы, удостоверяющие мою личность как нового переводчика испанского посольства.
– Назовитесь, сударь, – приказал молодой царь. – Мы можем устроить вам встречу с де Лириа, и, коли вы не лжете, он подтвердит ваше имя и звание.
– Беда в том, – сокрушенно качнул головой Хорхе, – что я не имею чести быть знакомым с господином посланником. Он многажды сообщал духовнику нашей милостивой королевы, архиепископу Амиде, который ведает при испанском дворе дипломатической перепиской, что ему необходим переводчик. Решено было послать меня, поскольку я хорошо знаю русский язык. Архиепископ Амиде также знал, что герцог испытывает денежные затруднения и давно не получал причитающегося ему вознаграждения за службу, поэтому я согласился заодно доставить ему крупную сумму. Теперь я ограблен, тяжело ранен этим негодяем и его приспешником, – он коснулся уродливого шрама, пересекавшего грудь, – а вдобавок ко всему и обесчещен, ибо не сдержал данного моей королеве слова…
Лицо его исказилось страданием.
– Коли все было так, как вы говорите, сударь, – взволнованно произнес молодой царь, – вины вашей в том нет, а значит, и бесчестие ваше… Что с вами? – воскликнул Петр Алексеевич, с юношеской живостью протягивая руки к покачнувшемуся Хорхе, однако не успел его поддержать: страшно побледнев, тот тяжело грянулся оземь, словно кто-то незримый подсек его невидимой косою под коленями.
Данька молча кинулся вперед, упал рядом и приподнял его голову. Сквозь туман в глазах увидел, что жилочка на шее слабенько трепыхается. Жив, слава богу! Из последних сил жив!
– Ваше вели… величество… царское… – Он путался в словах, а из глаз поползли предательские, совершенно девчоночьи слезы. – Ради Господа Бога, будьте милосердны, велите помощь ему оказать. Рана так тяжела, изнемог он совсем, того и гляди помрет!
– Окажите раненому гостеприимство, Алексей Григорьевич, – произнес царь, обращаясь к князю Долгорукому, однако задумчиво разглядывая при этом Даньку. – Пошлите нарочного к де Лириа. Неровен час, этот господин умрет, а если он и впрямь испанский дворянин, у него наверняка найдется, о чем поговорить с герцогом хотя бы напоследок.
– Неужто вы поверили в это? – ухмыльнулся князь Иван. – Разве похож он на испанца, хоть среди кавалеров и слуг де Лириа все такие же вот чернявые, однако что-то я не слышал от них ни единого словечка по-русски. Для них «здрасьте-прощайте» вымолвить – труднее, чем нам «Отче наш» задом наперед прочитать. Этот же шпарит по-нашему, словно… словно не из Мадрида к нам явился, а из Смоленска какого-нибудь.
– Да, – с сомнением отозвался Петр Алексеевич. – А и впрямь… Не врет ли этот «черноглазенький»?
– Не врет! – торопливо отирая с лица слезы, выкрикнул Данька, возмущенно слушавший их разговор, вцепившись в загривок Волчка и с трудом удерживая пса, который ужасно заволновался, увидав неподвижно лежавшего хозяйского приятеля, к которому он очень привязался за время пути и в котором чувствовал силу и волю вожака, готовый беспрекословно ему подчиняться. – Не врет, вот те крест святой!
Данька торопливо перекрестился, высвободив правую руку, и тут же вновь покрепче схватил Волчка.
– Ведь Хорхе – он природный русак, имя его Алексей, его Алексом в память о прежнем имени кличут. И он как раз со Смоленщины родом. Родители его были многодетные, а другого богатства не имелось в семье, кроме ребятишек. Случалось, что голодом голодали! И вот как-то раз проезжал через их городок один польский пан, увидал голодного мальчишку, пожалел, с собой забрал. Вырос у него Алеша, грамоте обучился, а поскольку он еще совсем дитя был, тот шляхтич его в свою латинскую веру перекрестил. Ему-то что было? Ничего не понимал! – частил Данька, стреляя глазами от Долгоруких к царю и обратно и что было силы пытаясь обелить своего нового друга, хотя помнил, как насторожила его самого эта история о смене отцовой, православной веры на чужую, католическую. – Ребенок – он и есть ребенок… И жил он в Польше до двенадцати лет, говорит, хорошо жил, жена того поляка – она русская была – не давала ему нашу речь позабыть. А потом поляк – он был на королевской службе – поехал по какой-то надобности в город Вену, где встретил испанского боярина по фамилии Монтойя. У него как раз незадолго до этого умер единственный сын, и когда он увидал Алекса, то чуть ума не лишился, ибо оказались они схожи с тем умершим, что две капли воды. Уж не ведаю, как Монтойя уговорил поляка отдать ему Алекса, только тот отдал-таки. Боярин испанский нашего Алекса усыновил, дал ему новое имя, какое подобает по испанскому обычаю, воспитал его. И по достижении нужного возраста определил на службу к королю, как своего законного сына. Так что вот…
– Брешет, брешет он! – раздался в эту минуту голос Никодима Сажина, который притих было, пораженный разворотом событий, а теперь, почуяв, что его врагам особой веры нет, решил подлить масла в огонь. – Сказки, байки! Да слыханное ли дело?! Ишь, испанец он, да поляк, да русский разом – не разбери поймешь кто! В огороде бузина, а в Киеве дядька. А этот? – грозно подступил было к Даньке, но тотчас отпрянул на безопасное расстояние от Волчка. – Этот-то кто таков будет? Тоже небось иноземец? Понаехало вас тут на нашу голову – на добрых людей напраслину возводить да девок нашенских бесчестить!
– Да кто ее бесчестил-то! – возопил окончательно выведенный из терпения Данька. – Кто, ну кто?!
– Ты! – подскочила к нему Мавруха, у которой припадки возмущения по поводу утраченного девства странным образом совпадали с приступами отцовской ярости, а стоило Никодиму успокоиться или забыться, как и она переставала переживать. – Ты и бесчестил. Как завалил меня на спину, да еще придавил, чтоб не дергалась…
– Опять за рыбу гроши, – процедил сквозь зубы Данька. – Ну, с меня хватит!
Этот возмущенный выкрик вызвал откровенную усмешку на лице государя, который поглядывал на Даньку без особого гнева, а даже с некоторым расположением, которое всегда возникает между сверстниками. Ведь Даньке с виду было лет пятнадцать от силы, а императору только через два месяца, 12 октября, должно было исполниться четырнадцать. Он прежде времени повзрослел, оказавшись на троне, а оттого выглядел значительно старше своих лет. Так он изменился, едва заговорили о возможном для Петра Алексеевича престолонаследии. Он наконец сообразил, что больше не изгнанник в собственном отечестве, а его грядущий властелин. Он то казался избалованным ребенком, то в чертах его проскальзывала некая ранняя умудренность, порою даже усталость от этой мудрости, они приобрели выражение холодного недоверия ко всем и каждому, оттого и производил он отталкивающее впечатление престарелого юнца.
Вот и сейчас он смотрел на распаленного злостью и горем Даньку так, словно хотел сказать: «С тебя хватит, говоришь? Ты намерен что-то изменить? Но здесь только один человек волен и способен менять судьбы людей. Этот человек – я, а твоя участь – покорно снести все, что предписано моей волей!»
Однако Данька, чье терпение совершенно иссякло, даже не дал себе труда заметить пренебрежительную усмешку императора. Он пошарил вокруг взглядом, и лицо его прояснилось, когда он заметил чуть поодаль прекрасную всадницу в синем платье – Екатерину Долгорукую. Все были так увлечены случившимся, что не обратили внимания на ее появление, а княжну слишком утомило единоборство с конем, чтобы наброситься на мужчин с упреками за невнимание к своей особе. Все, в чем она пока что смогла выразить снедавшее ее раздражение, – это грубо отпихнуть стремянного, который помог ей сойти с седла, и горничную девушку, пытавшуюся смахнуть пыль с роскошного платья госпожи.
Данька вскочил с колен и низко поклонился красавице.
– Простите, ради бога, за вольность, – сказал он с выражением таким свободным, словно к высокородной княжне обращался не измученный оборванец, а по меньшей мере равный ей по рождению. – Позвольте вам секретное словечко молвить.
Княжна, то ли от изумления, то ли от возмущения, не издала ни звука – только кивнула. Оба князя Долгорукие и император тоже не успели вмешаться, явно пораженные такой наглостью и опешившие. На лице Екатерины промелькнуло выражение брезгливости, когда Данька подошел к ней слишком близко, она отпрянула было – однако при первых же его словах, остававшихся неслышными для остальных, широко распахнула свои удивительно синие глаза и взглянула на юнца с таким выражением, что любому стало ясно: на смену злости пришла полная растерянность. Она даже приоткрыла маленький вишневый ротик и совсем по-девчоночьи уставилась на Даньку, который посматривал на нее с затаенной улыбкой.
Более того! Точно такая же улыбка, словно отразившись в зеркале, засияла и на точеном лице княжны!
– А не врешь? – вымолвила наконец Екатерина.
– Да ведь в том очень просто убедиться, – ответил Данька, плутовски склонив голову.
– И в самом деле, – с этим новым, необычайно красившим ее, девчоночьим выражением хихикнула княжна и что-то шепнула своей горничной.
Девка заспешила к дому, схватив за руку Даньку и волоча его за собой. Он едва бросил прощальный взгляд на Хорхе, по-прежнему лежавшего на земле, и сделал знак Волчку. Пес тотчас лег рядом с раненым.
Октябрь 1728 года
– И когда же мы теперь опять увидим его величество? – В голосе барона Остермана звучала безнадежность.
Степан Васильевич Лопухин, камергер государя, посмотрел виновато:
– Сказали, воротятся не прежде, чем выпадет первый снег. Уж больно по нраву борзые пришлись!
– А, будь неладен этот де Лириа! – простонал Андрей Иваныч. – То на все готов, чтобы заставить государя отвлечься от здешних забав и воротиться в Петербург, то нарочно понуждает его к пустому времяпрепровождению! Это же надо было додуматься: из самой Англии выписать двух борзых для презента молодому императору! И это прекрасно зная, как его величество увлечен охотой! А между тем сказано в Писании: не искушай малых сих. Чертов испанец!
– Скорее чертов англичанин, – усмехнулся высокий, с грубоватым, умным лицом человек, сидевший напротив Остермана и представленный Лопухину как Джеймс Кейт.
После этой реплики Степан Васильевич тоже не смог не улыбнуться, потому что Джеймс Кейт и сам был англичанином, хотя прибыл из Испании, подобно герцогу де Лириа. Впрочем, тут имелись свои тонкости. Кейт являлся сторонником католика, свергнутого и умершего в изгнании принца Иакова II, родственником и тоже приверженцем коего был герцог де Лириа. Таких, как Кейт, называли якобитами. Посещая Россию, все заезжие якобиты считали своим долгом непременно посетить дом Патрика Гордона-младшего, такого же ярого католика, каким был его отец, знаменитый адмирал Гордон, верный сотрудник Петра Первого. Изгнанные из Англии якобиты-католики нашли приют и покровительство в Испании, чему ярчайшим примером был тот же де Лириа. Однако Кейт, ратуя за возвращение престола претенденту (так англичане называли изгнанного короля Иакова II Стюарта, а потом и его сына, Иакова III, жившего теперь в Италии), в то же время являлся убежденным протестантом, отчего и не мог устроиться на королевскую службу в католической Испании, а принужден был искать своей доли в России, равно доброй ко всякому иностранному сброду.
«Сплошная путаница, где протестант, где католик, голову сломаешь с этими иноземцами», – подумал не без досады Лопухин, который, хотя и был женат на чистокровной немке-протестантке Наталье Балк, родственнице бывших императорских фаворитов Анны и Виллима Монсов, хотя и дружил-водился через нее с Карлом-Густавом Левенвольде, Остерманом и прочими немцами, прижившимися при дворе, все же не мог избавиться от свойственного всем русским, глубоко укоренившегося, исконного недоверия к чужестранцам. Впрочем, мнения свои Лопухин держал при себе, потому что ко всем вышеназванным, а также к испанцу де Лириа весьма благоволил молодой император, а тем паче – его сестра, великая княгиня Наталья Алексеевна.
– С первым снегом вернется, – фыркнул Остерман, подходя к окну и вглядываясь в серую морось, занавесившую московские улицы. – Дождись-ка его, этого первого снега! – И он протер красные, воспаленные глаза.
Всем было известно, по словам де Лириа, что Остерман страдает неизлечимой болезнью с мудреным испанским названием fluxion а̀ los ojos. На маленьком столике возле камина стояла баночка с неприятно пахнущей мазью. Похоже было, что Остерману не терпится заняться облегчением своих страданий.
– Осмелюсь спросить, господин Остерман, кто пользует вас? – спросил Кейт.
– Кто же, как не Лаврентий Блументрост, лейб-медик его величества? – проворчал Остерман.
– Судя по выражению вашего лица, вы не больно довольны способностями сего лекаря? Я, конечно, далек от того, чтобы давать лекарские советы, – с какой-то особенной, сразу подмеченной Лопухиным осторожностью проговорил Кейт, – однако медицина в наше время весьма продвинулась вперед. Я наслышан, что даже вещества, коими в прежние времена только лишь травили своих противников, теперь с успехом применяются для лечения разных заболеваний. Даже этот ужасный мышьяк…
– Как это любопытно! – послышался оживленный женский голосок, в котором Степан Лопухин с некоторым удивлением узнал голос своей супруги.
Кейт привстал, чтобы оказать даме любезность и подать ей кресло, однако Наталья Федоровна уже сама позаботилась о себе. С живостью устроилась поблизости, на диванчике, подперлась округлым белым локотком, вокруг которого красивенько легли волны кружев, коими оканчивались рукава ее атласного голубого платья, и устремила на Кейта свои совершенно синие, какие-то даже ненастоящие, словно бы нарисованные глаза. Впрочем, личико у Натальи Федоровны тоже было как бы ненастоящее, фарфоровое.
Лопухин неприметно вздохнул, видя, как заиграли глаза Кейта, устремленные на Наталью Федоровну. Господи, ну что находят мужики в этой накрашенной кукле? Впрочем, он ведь и сам в свое время пленился ее нарисованной, искусственной красотой, и немало прошло времени, немало пар рогов выросло на лысеющей голове Степана Васильевича, прежде чем его искренняя любовь к жене сменилась привычной скукой и равнодушием. Однако же нельзя отрицать, что Наталья необычайно умна тем практическим немецким умом, который делал из нее и хорошую хозяйку, рачительно ведущую дом, и позволял удерживать место первой красавицы при дворе, увеличивая число своих доходов и без помощи кошелька законного супруга. Степан Васильевич давно и со многим смирился и даже научился извлекать пользу из увлечений жены.
Нельзя ли извлечь эту самую пользу из ее флирта с Кейтом? Лопухин вслушался в разговор.
– Вытяжкой из мышьяка сейчас научились исцелять очень многие болезни, – любезно рассказывал иноземный гость. – Это совершенно волшебное средство называется тинктура моруа. Мне чудом удалось сделаться обладателем малой порции этого чудодейственного лекарства.
Разумеется, Кейт нес чистую околесицу. Тинктура моруа не имела к мышьяку никакого отношения. Даже тинктурой, то есть настойкой, она называлась чисто условно. Это было сложносоставное средство, смесь вытяжек различных растений, от наперстянки до экзотического алоэ, Кейт и сам толком не знал названий всех компонентов этого зелья. Зато он знал все о его свойствах, и знал отлично… Разумеется, он не собирался никого посвящать в такие тонкости, а потому с прежним оживленным выражением говорил:
– Об одном сожалею, господин Остерман, что не могу вам порекомендовать тинктуру моруа. Насколько мне известно, это не панацея, тем паче не поможет она от глазных болезней. Однако если кто-то из вас или ваших близких хворает грудными болезнями или, боже упаси, холерой…
– Про холеру мне ничего не известно, а вот великая княжна определенно страдает грудной болезнью, – заявила Наталья Федоровна.
Кейт изящным жестом выхватил из кармана камзола флакончик с серебряной крышечкой:
– Рекомендую! Тинктура моруа!
Наталья Федоровна издала восхищенное восклицание, однако было бы затруднительно определить, относится оно к содержимому флакона или к нему самому, поскольку вещица и в самом деле была замечательная. Каждому выпало удовольствие подержать ее в руках, полюбоваться отшлифованной синей яшмой, из которой был сосудец выточен, а также серебряной крышечкой, притертой настолько прочно, что даже невозможно было угадать, как она отвинчивается или снимается.
– Не пытайтесь открыть, господа, – посоветовал Кейт, не без опаски следя за мягкими, алчными ручками Натальи Федоровны, которая самозабвенно сражалась с крышечкой. – Чтобы открыть флакон, надобно знать особую хитрость. Кроме того, жидкость весьма летуча и быстро испаряется. А мне бы не хотелось лишиться ни капли ее. Это и в самом деле уникальное произведение химической науки. Несколько капель – ну, для каждой болезни есть своя определенная дозировка – сделают человека здоровым. Другое количество способно лишь усугубить признаки имеющегося у нее… я хочу сказать, у него, прошу прощения, я все еще говорю по-русски с ошибками! – имеющегося у него заболевания, постепенно сведя больного в могилу. Третье количество убьет вашего врага на месте. Но самое интересное свойство имеет всего лишь одна капля тинктуры моруа – одна капля, господа! Эта капля, добавленная в спиртной напиток, водку или вино, полностью подавляет волю человека и делает его покорным исполнителем всех желаний и повелений того, кто подал ему напиток.
– Ну, это сказки какие-то, – проворчал трезвомыслящий Остерман, ожесточенно натирая свои и без того красные, опухшие от непрерывного зуда веки. – Как это мыслимо: полностью подавить волю человека? Да и кому это нужно? На что?
– Ну, не скажите, Андрей Иваныч, – задумчиво пропела Наталья Федоровна. – Ну, не скажите…
Синие глаза ее загорелись поистине адским, коварным огоньком, и Степан Васильевич надулся, как мышь на крупу. Он отчетливо представлял, о чем сейчас размышляет его супруга. Полная власть… в сознании Натальи Лопухиной это словосочетание имело смысл только по отношению к мужескому полу. Полная власть над мужчинами!
«Мало ей, что ли? Кого еще решила к своей юбке пришить? Левенвольде, что старший, что младший, покорные рабы, по слухам, консул Рондо тоже не против, да и вообще… Неужто за этого якобита Кейта взяться решила?» – тоскливо, обреченно привычно подумал Степан Васильевич, даже не подозревая, что на сей раз он категорически ошибается насчет помыслов своей жены. Наталья думала только о своем собственном, венчанном, родном, до смерти надоевшем муже. Вот чью волю она хотела бы подавить!
И не только она…
Август 1729 года
– Катя, ты что?.. – начал было Алексей Григорьевич, но самоуверенная красавица только повела смеющимися глазами – и он замер, усмиренный.
Спору нет, князь Долгорукий был скор на расправу и умел с удовольствием ставить людей, даже самых близких, на место. Наедине с дочерью, пусть даже он ее и очень любил, князь не полез бы в карман ни за оплеухой, ни за грубым, уничижительным словом, однако в присутствии императора он обращался с Екатериной с не меньшей почтительностью, чем с самой великой княжной Натальей Алексеевной, как бы подавая пример венценосному юнцу. Сказать по правде, последнее время, когда далеко идущие намерения окончательно сложились в голове князя Долгорукого и он понял, какими путями можно приблизиться к желаемой верховной власти, отец и наедине стал обращаться с дочерью иначе, стараясь не унижать ее и не грубить ей, а также со всем возможным старанием удерживался от рукоприкладства. Черт знает, если все так пойдет, как рассчитывает Алексей Григорьевич, если все сложится, не придется ли ему самому в ногах у Екатерины ползать, вымаливая прощение за каждый тычок, каждую оплеуху, каждое ехидное словцо? Лучше, чтобы таких грешков было поменьше, потому что нрав у доченьки такой же крутенький, как у батюшки. Сейчас ее прогневишь – как бы через год с головой не проститься!
Итак, старый князь смолчал. Не обмолвился ни словом и молодой Долгорукий, однако по другой причине. Сестру и отца он ненавидел (в его оправдание можно лишь сказать, что эта ненависть была порождением их ненависти и вынужденным ответом на нее), а потому страстно желал, чтобы Екатерина, которую Алексей Григорьевич старательно сводил с молодым императором – со всеми замашками опытной, прожженной сводни! – попала в дурацкое положение. Подобно всем высокородным гордячкам, она не выносила ни малейшей насмешки над собой. Что бы сестрица там ни задумала с этим бродяжкою, будет очень забавно поглядеть, как она сядет в лужу.
Император Петр Алексеевич также не издал ни звука, поскольку в разговорах с княжной Екатериной не находил ни малейшего удовольствия. Вот наперегонки с ней скакать верхом – дело другое, всадница она отменная. А все прочее… Честно говоря, княжну Екатерину он не находил ни красивой, ни даже привлекательной. Его вообще раздражали точеные высокомерные красавицы. Именно такой была его прежняя невеста Мария Меншикова, по слухам, нашедшая свою смерть в далеком сибирском Березове. И этот городишко за тридевять земель, и судьба Меншиковых волновали молодого императора не просто мало, а вообще никак не волновали. Его неразвитый ум неспособен был к длительному напряжению, и вспышки мудрости, прозорливости или просто трезвой разумности не только не просветляли его, но вызывали огромную усталость, вплоть до головной боли. Он вообще недолюбливал слишком громкие звуки, слишком яркие краски, слишком необычных или даже обладающих незаурядной внешностью людей – именно потому, что смутно чуял некую угрозу во всем, что слишком. И даже слишком красивых женщин не любил, за исключением тетушки своей Елизаветы Петровны, которая, с ее синими глазами и каштановыми волосами, с детских лет являлась для него идеалом гармонии. А вообще-то ему нравились русоволосые, сероглазые, с нежным румянцем, тонкие станом девушки с мягкими повадками и негромким голосом… Вроде вот той, которая сейчас спешила от дома Долгоруких в сопровождении горничной княжны Екатерины.