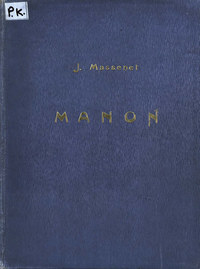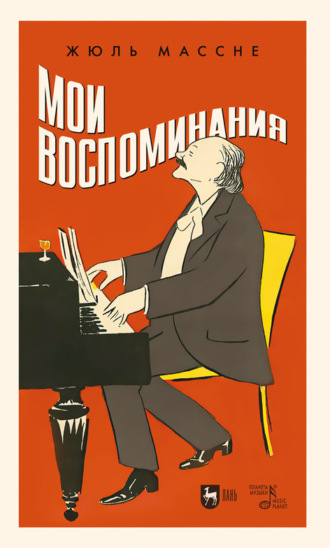
Полная версия
Мои воспоминания

Жюль Массне
Мои воспоминания

Massenet J. My Recollections / J. Massenet; O. V. Mikhnyuk (translation from French, foreword). – 2nd edition, ster. – Saint Petersburg: Lan: The Planet of Music, 2024. – 248 pages. – Text: direct.
The outstanding French composer Jules Massenet (1842–1912) wrote his memoirs towards the end of his life. With a lively and fascinating language, he talks about the years of his studies, the first success, the productions of his operas, travels, cooperation and friendship with musicians, singers, conductors, composers, publishers.
The book will be of interest to musicians, singers, students of music colleges and higher schools, musicologists and a wide range of music and opera lovers.
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2024
© О. В. Михнюк (перевод с французского, вступительная статья), 2024
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2024
Жюль масоне – завещание романтика
Воспоминания композитора – еще одна история жизни в целой череде автобиографических заметок, столь популярных в век романтизма, вырастающих не столько из ощущения причастности большим событиям, сколько из главного открытия романтической, а вслед за ней и неоромантической эпохи – осознания ценности человеческой личности, неповторимости не одних лишь гениальных мыслей, открытий или свершений, но наших чувств, впечатлений, переживаний.
Ярче всего новое мироощущение проявит себя в музыке. Ярче – но не раньше, ибо расцвет романтического творчества в ней придется на время, когда романтизм литературный и живописный уже почти угаснет, когда первый его порыв, готовый обнять небо и землю, бросить человека в глубины бытия, в сражение с его основами, в круговорот мифологии и истории, сменится более мягкими напевами, которые если и не оставляют совершенно в стороне мировые катаклизмы и разбушевавшиеся стихии, то превращают их в фон для самой главной и сокровенной человеческой драмы – любви: только рождающейся или полыхающей племенем, трепетной или роковой, поднимающей до небес или повергающей в душевный ад.
Такие чувства станут преобладать и в зародившемся в середине XIX столетия феномене национальной оперы, особенно оперы комической, прежде оттенявшей своей шутливостью, карнавальностью, легкостью глубину драматических оперных шедевров. Это понимание постепенно уходит, уступая место сценической сентиментальной драме, чистой лирике, воспевающей жизнь сердца. К плеяде композиторов, прославивших это направление, вне сомнения, относится Жюль Массив, чей творческий расцвет пришелся на 80-е – 90-е годы позапрошлого века, недаром ставивший эти «новые оперы» во главе всего своего творчества: собственно, только о них, да еще об ораториях, близко примыкавших к оперному жанру, он и будет рассказывать нам на страницах адресованных внукам воспоминаний. С новой лирической оперой и с театрами, отдающими ей предпочтение, связано все его повествование о жизни, каждая работа, каждая постановка – веха, от которой он будет отталкиваться, повествуя о людях, событиях, но гораздо более – об отношении к происходящему, о «проживании» каждого такого этапа как маленькой жизни.
Потому, наверное, мы почти не увидим в этих заметках рассказов о титанах эпохи, о тех, чьи имена и сегодня царят на афишах концертных залов, филармоний и, разумеется, оперных театров. Вскользь будет упоминать Массив о таких фигурах, как Гуно или Вагнер, зато целые страницы посвятит малоизвестным ныне преподавателям консерватории, своим учителям, наставникам, соавторам по работе – писателям-драматургам, издателям и меценатам, чьи интеллектуальные находки навели его на мысль о создании того или иного его шедевра. То же самое прозвучит и в речах, посвященных предшественникам и коллегам – собратьям по Академии изящных искусств. Имена большинства из них ныне известны лишь узкому кругу историков искусства, а произведения отнюдь не отмечены «печатью вечности».
Но именно они окажутся в глазах Массне «великими» и «дорогими», им он будет щедро расточать похвалы, отмечая, помимо таланта, их трудолюбие и интеллигентность, стойкость в превратностях судьбы художника, артиста, неизменную улыбку, с которой проходят они по жизненному пути, короткому или длинному, неважно.
Означает ли это, что композитор, которого его время вознесло на вершины признания (хотя еще при жизни оперные его произведения стали называть устаревшими – так стремительно наступало в искусстве еще одно «новое время», то, которое Анна Ахматова назовет «не календарным, настоящим двадцатым веком»), не разбирался в том, что было делом его жизни, понимал в искусстве меньше нас, читателей его записок? Или что он был привержен корпоративному духу, превознося тех, кто был близок ему лично, сыграл роль в его карьере, способствовал его славе?
Конечно, нет. Вероятно, доли предвзятости и тщеславия, свойственных творческим людям, Массне и не лишен. Так, узнав о разорении первого своего издателя и соавтора Жоржа Артмана, испытывая тревогу за судьбу партитур, отданных последнему, он предполагает: «…Артман, чья дружба ко мне оставалась неизменной, а сердце – всегда открытым, переживает не меньше, чем я сам». Думается, потерявший все предприниматель имел несколько больше оснований переживать, в том числе и за себя самого, чем композитор, находившийся в зените славы, что и подтвердило ближайшее будущее, явившееся в лице другого гиганта издательского дела Анри Эжеля. Но говорит это скорее о почти детской непосредственности восприятия жизни. Равно как и не единожды упоминаемый Массне «страх премьеры», когда во время публичной репетиции или первого представления он отсиживается за кулисами в дальнем уголке или вовсе сбегает из театра – чудесный штрих к портрету творческой личности, для которой провал выношенного в душе и уме детища – личная драма, глубокая рана, а не просто эпизод. Все это имеет место, но… За отзывами о современниках и товарищах по ремеслу стоит нечто более значительное, чем представление об их успешности. Это лишь дань общественному мнению, публике, требующей в свое распоряжение только лучшего. А истина скрывается за магическим для Массне названием – вилла Медичи.
Ибо, адресуя, как уже было сказано, эту повесть внукам – наследникам своей славы, людям новой эпохи, Массне желает беседовать с ними не о вершинах или низинах искусства, а о самой сути красоты, о том, зачем ищут ее художники, писатели, композиторы. Ради чего существует сей труд и мука творчества. Поездка в Италию после получения Римской премии дает этот ответ ему самому. А он, маститый сочинитель, педагог, член Французского института, пытается в речи на ежегодном собрании Академии изящных искусств донести его смысл до молодых, до тех, кому стажировка еще только предстоит: «С первого же вечера Рим покорит вас, и вы сразу поймете это, как только посмотрите на него с высоты Пинчио, и ваш взгляд притянут извивы улиц города пап и цезарей, над которыми парит купол собора Святого Петра, языческий Колизей и далее – поля, уже окрашенные в неуловимые оттенки заката, в золоте последних солнечных лучей, вплоть до Яникула. Вы почувствуете, как ваша душа погрузится в беззвучную молитву, наполнится благодарностью. Поймете, что в вашей груди слева более ничего не дрожит, что идти дальше уже бесполезно».
Искусство – молитва человеческой души. Молитва не о признании, не о славе, но о счастье приобщения, погружения в него. Такова и любовь. Поэтому так неутомимо будет воспевать ее композитор, порой с оттенком снисходительности именуемый «дамским», как указывает в предисловии к его воспоминаниям Ксавье Леру. Нет! Любовь и музыка (искусство вообще) идеальны, только они возвышают человеческую душу, наполняют ее той же благодарностью, что силуэты Вечного города. И один за другим возникнут на страницах его партитур и зазвучат со сцен женские голоса, поющие о самопожертвовании во имя любви, голоса Марии Магдалины, Эсклармонды, Гризельды, Манон, Шарлотты, Терезы. В них воскреснут все творения старых мастеров, и переживания, что волнуются в душе, обретут звук и плоть.
Музыка – искусство переживания и сопереживания, долгого поиска нужного впечатления, как скульптура – одушевление камня, живопись – холста, как наука – душа ума. И одним из самых главных ее открытий становится для Массне спиритуалистическая теория Уильяма Джеймса, предназначающая устремленным ввысь душам места на собственных звездах. Именно об этом «звездном» бытии – последний монолог композитора, завершающий книгу воспоминаний. Амы, прочитав нехитрую его исповедь, невольно верим, что так и есть, и среди светящихся точек на небе по-прежнему есть звезда Массне – добродушная, улыбчивая, нежная и безраздельно преданная творчеству.
Это – завещание романтика нашим неромантичным временам. То, что, помимо музыки, заслуживает пережить века и в них остаться.
Ольга Михнюк
Предисловие
Лет пятьдесят назад лодочники, спускавшиеся по Сене, не доходя Круассе, замечали на берегу реки павильон, окна которого были ярко освещены. «Это дом господина Густава», – отвечали на их расспросы местные жители. Действительно, великий Флобер яростно работал, дымя трубкой, и отрывался от своих трудов лишь затем, чтобы ночью подставить под свежий воздух крепкую грудь старого нормандца.
А редкие прохожие, что оказывались в четыре часа утра на улице Вожирар, поражались необычному виду светящихся окон на фоне черных фасадов. Они спрашивали себя, что за позднее празднество здесь происходит. Это был праздник звуков и гармоний, которые прославленный мастер сплетал в прелестный венок. Наставал час, когда Массне оставлял рабочий стол, и начинало твориться волшебство. Муза садилась рядом с ним и напевала ему на ухо, рождая под белыми нервными руками артиста песни Манон, Шарлотты, Эсклармонды.
Этот свет угас, окно более не освещает сад. Хранителя огня нет более. Но, несмотря на зловещие крики ночных птиц – музыкантов-завистников – бьющих крыльями в хрустальную клетку, где бьется его огонь, его творения продолжают светить вечно.
Его наследие поистине огромно. Но если и знал Массне триумфы и славу, то был обязан ими неустанному и плодотворному труду. За что бы он ни брался: за пьесу, оперу или симфонию, – во всем являл он свое искусство. Своим первым успехом он обязан был песням. Сколько было фортепиано, на пюпитрах которых водружались листки с «Апрельской поэмой», и сколько девиц снискали восхищение слушателей, исполняя «Песню любви». А его репутация в музыкальной среде родилась вместе с его симфоническими произведениями. Партитура музыки к «Эриниям», «Эльзасские сценки» и «Живописные зарисовки» изобилуют яркими находками.
Не пренебрегает он и ораториями. Вопреки репутации «дамского» композитора, он обращается к библейским сюжетам и выводит перед нами точным штрихом Еву, Пресвятую Деву и Марию Магдалину. Несколько лет назад мне довелось услышать исполнение «Марии Магдалины» в театральном зале, и драматичная красота этой постановки доставила мне огромное удовольствие. Вслушиваясь в пламенные пассажи, такие как: «О возлюбленный мой! Слышите ли вы Его голос?» – мы понимаем, что это произведение уже сорок лет составляет славу автора, которая стала всемирной, как только его творения появились на театральных сценах, и каждая новая постановка все увеличивала известность композитора. Попытавшись сделать обзор его произведений, мы перечислим почти весь репертуар современных театров, ибо Массне был прежде всего человеком театральным. Ведь писать музыку для сцены – значит создавать посредством звуков особую атмосферу, обстановку, в которой разворачивается действие, намечать характеры героев, писать широкими мазками полотно, соответствующее исторической и психологической интриге. И это удавалось автору «Манон» как никому другому. Однако следует признать, что есть разница между Массне – оперным композитором и Массне – автором комических опер[1]. Человек, сочинивший «Мага», «Короля Лагорского», «Иродиаду», «Сида», «Вакха», «Рим», особенно ярко явил свою индивидуальность в «Манон», «Вертере», «Эсклармонде», «Гризельде», «Терезе», «Жонглере Богоматери». Певец любви, он воспроизводит все оттенки этого чувства – да как рельефно! Его интонация, оригинальная, гибкая, ласкающая слух, пленяет непреходящей тоской, захлестывает волной, и как волна же расплескивается легкой пеной. Она выделяется среди всех прочих, ее ни с чем не спутаешь. Отточенная техничность лишь придает ей достоинства, а сдержанность стиля вовсе не исключает выразительности. Однако отпечаток его индивидуальности лежит на творениях многих французских и иностранных композиторов.
И когда серая пыль веков укроет сокровища, созданные великим ушедшим, когда драгоценный прах, оставленный годами, сгладит все неровности, отделит произведения-однодневки от блистательных, вечных, как «Манон» или «Вертер», Массне, вне сомнения, займет подобающее ему место в ряду «великих». Ведь именно от него приняла французская школа священный факел, и будущее будет признательно ему как за великолепные произведения, так и за всю прекрасную его жизнь, о которой сам он рассказывает на последующих страницах этой книги.
Ксавье Леру
Мои воспоминания (1848–1912)
Меня часто спрашивали, записывал ли я свою жизнь день за днем, в виде дневника? Да! Верно! И вот как приобрел я эту привычку.
Моя матушка, образцовая жена и мать, занимавшаяся моим нравственным воспитанием, в день моего рождения, когда мне исполнилось десять лет, сказала мне: «Вот тебе записная книжка (это была одна из тех длинных и узких записных книжек, какие продавались тогда в магазинчиках «Бонмарше», до того, как они разрослись в огромное предприятие, какое мы знаем сейчас)». И добавила: «Каждый день, ложась спать, записывай в нее все, что ты делал, слышал и видел в течение дня. Если ты сделал или сказал что-то, в чем мог бы себя упрекнуть, ты должен записать это признание. Возможно, это заставит тебя подумать, прежде чем совершать предосудительные поступки».
Разве мысль эта не принадлежала незаурядной женщине, прямой и честной как в помыслах, так и в сердце своем, считавшей первейшей обязанностью по отношению к сыну развить в нем сознательность, положить совестливость в основу всего его воспитания!
Однажды, когда я был один и придумывал себе разные развлечения, роясь в шкафу, я нашел несколько плиток шоколада. Одну из них я вытащил и разгрыз. Я часто говорил, что я лакомка, никогда этого не отрицал, и вот тому прямое доказательство.
Настал вечер, и мне предстояло записать в дневнике отчет за день. Признаюсь, я колебался, говорить ли о соблазнительной шоколадной плитке. Моя совесть подверглась суровому испытанию, однако победила, и я смело записал проступок в дневник.
Мысль о том, что матушка прочтет о моем преступлении, немного меня смущала. В эту минуту она вошла, заметила мою сконфуженность, и, узнав о ее причине, обняла меня и воскликнула: «Ты вырастешь честным человеком! Я прощаю тебя, но это еще не повод в другой раз тайно поедать шоколад». Позднее мне приходилось его есть, и самый лучший, но я всегда спрашивал разрешения.
И именно поэтому я стал записывать все свои воспоминания, хорошие и дурные, веселые и грустные, счастливые и не очень, дабы сохранять их в неизменной ясности.
Глава 1
Поступление в консерваторию
Даже проживи я (что, конечно, невероятно!) тысячу лет, и то этот судьбоносный день 24 февраля 1848 года (мне вот-вот должно было исполниться 6 лет) не изгладился бы из моей памяти, и не потому, что он совпал с падением Июльской монархии – этот день был отмечен моим вступлением на музыкальное поприще, хотя я до сих пор сомневаюсь в этом своем призвании, питая пылкую любовь к точным наукам.
Я жил тогда с родителями на улице Бон, в квартире, выходящей окнами в обширный сад. День обещал быть прекрасным, хотя и было необычно холодно. Мы сидели за завтраком, когда одна из наших служанок буквально влетела в комнату, где мы собрались. «К оружию, граждане!» – вопила она, без разбору швыряя на стол блюда. Я был еще слишком мал, чтобы понимать, что творилось на улицах. Все, что я помню – как мятежники заполонили все, и революция распространялась, сметая с трона даже самых благодушных государей.
Чувства, волновавшие отца, разительно отличались от тех, что тревожили чуткую душу матушки. Мой отец служил офицером при Наполеоне I, был коротко знаком с маршалом Сулом, герцогом Далматинским, оставался исключительно предан императору, и жаркая атмосфера битвы как нельзя лучше ему подходила. Что же до матушки, бедствия первой революции, лишившей трона Людовика XVI и Марию-Антуанетту, породили в ней настоящий культ Бурбонов.
Воспоминания о той трапезе тем яснее ясно отпечатались в моей памяти, что именно в тот исторический день при свете свечей в канделябрах, которые были тогда приметой богатых домов, матушка впервые возложила мои руки на клавиши фортепиано.
Дабы приобщить меня к инструменту, матушка, руководившая моим музыкальным образованием, сначала укрепила над клавиатурой полоску бумаги, написав на ней ноты, соответствовавшие каждой из белых и черных клавиш и должным образом расположенные на пяти линейках. Это была превосходная задумка, ошибиться становилось невозможно.
Я делал в музыке быстрые успехи, поэтому три года спустя, в октябре 1851 года, родители решили отвести меня в консерваторию для сдачи вступительного экзамена в класс фортепиано. Однажды утром в том же месяце мы пришли на улицу Фобур-Пуасоньер, где длительное время располагалась Национальная консерватория, прежде чем переехать на улицу Мадрид. Стены большого зала, как, впрочем, большинства помещений подобного рода, были выкрашены в серый и голубой цвета с черным рисунком поверх. Единственной мебелью в прихожей были старые банкетки.
Сурового вида служащий господин Ферьер вызывал соискателей, выкрикивая их имена в толпу взволнованных родителей и друзей семьи, пришедших их сопровождать, и этот вызов звучал как приговор. Каждому выдавался порядковый номер, обозначавший очередность его появления перед жюри, члены которого уже собрались в концертном зале.
Этот зал, назначенный для экзамена, представлял собой что-то вроде небольшого театра с рядами лож и полукруглой галереей и выдержан был в стиле Консулата. Меня он никогда не трогал, я признавал его, не испытывая при этом никаких чувств. Но мне часто представлялся консул Наполеон, сидящий в центральной ложе нижнего яруса, словно в черной дыре, рядом с подругой его юных лет Жозефиной. Его лицо было прекрасно своей энергией, ее же нежный взгляд и благожелательная улыбка вселяли смелость в учеников, за первыми опытами которых они вместе наблюдали. Благородная и добрая Жозефина, казалось, желала посредством этих визитов в святилище искусств смягчить помыслы человека, занятого множеством иных важных дел, сделать его менее жестким через соприкосновение с юностью, которая также в свой срок, вероятно, не избежит встречи с ужасами войны.
В этом небольшом зале, который не следует путать с гораздо более известным залом Концертного общества консерватории, где со времен Сарета, первого директора, проходили и по сей день проходят экзамены всех классов заведения, разыгрывались трагедии и комедии, здесь же несколько раз в неделю занимались органисты, так как здесь, в глубине, за занавесом, находился большой орган с двумя клавиатурами. Рядом с этим инструментом, изношенным и визгливо звучащим, располагалась роковая дверца, через нее ученики попадали на эстраду, игравшую роль сцены. И в этом же зале заседал комитет по предварительному отбору работ на музыкальную премию для композиторов, так называемую Римскую премию.
Однако вернусь к утру 9 октября 1851 года. Как только всех молодых людей уведомили о порядке прохождения ими экзамена, нас провели в соседнюю комнатку с дверью, которую я прежде назвал роковой, она представляла собой подобие старого, пыльного чердака. Жюри, чей вердикт мы должны были бесстрашно выслушать, состояло из Галеви, Карафа, Амбруаза Тома, множества преподавателей консерватории, президентом был ее директор, господин Обер, о коем все говорили, что он самый известный и самый плодовитый из французских мэтров, составивших себе имя в большой и комической опере.
Господину Оберу было тогда шестьдесят пять лет. Его окружало всеобщее обожание, в консерватории его также любили все. Я постоянно вспоминаю его прекрасные черные, горящие пламенем глаза, они остались такими до самой его смерти в мае 1871 года.
Май 1871! Вокруг бушевало восстание – последние содрогания Коммуны. А господин Обер оставался верен своему бульвару рядом с проспектом Оперы, излюбленному месту прогулок, и, встречая кого-либо из друзей, также, как он сам, испытывавшего отчаяние в те ужасные дни, говорил ему с невыразимой тоской: «Ах, я, кажется, зажился!» А после добавлял с легкой улыбкой: «Ничем не следует злоупотреблять».
А в 1851 году, когда я с ним познакомился, наш директор уже давно проживал в старом особняке на улице Сен-Жорж, где, на моей памяти, он запросто принимал визиты начиная с 7 часов утра. Затем ехал в консерваторию в тильбюри, которым обычно управлял сам. Его слава была всемирной. Глядя на него, сразу вспоминали его оперу «Немая из Портичи»: судьба ее сложилась особенно счастливо, она пользовалась самым оглушительным успехом, пока на сцене Оперы не появился «Роберт-Дьявол». Говоря о «Немой из Портичи», чаще всего вспоминают о волшебном действии, которое оказало исполнение во втором акте дуэта «О святая любовь к Родине!» на патриотов, пришедших на представление в театр де Ла Моине в Брюсселе. Оно поистине дало сигнал к началу революции 1830 года, что привело к обретению независимости нашим северным соседом. Весь зал, словно охваченный безумием, пел вместе с артистами этот героический рефрен, повторял его безостановочно, раз за разом.
Каков же был мастер, способный похвалиться таким успехом в своей карьере!
Когда назвали мое имя, я, дрожа, поднялся на эстраду. Мне было всего 9 лет, а исполнять я должен был финал сонаты Бетховена (ор. 29)! Что за дерзость!
Как это было принято, меня остановили после исполнения двух или трех страниц, и я, совершенно сбитый с толку, услышал, как господин Обер пригласил меня предстать перед жюри. Вниз с эстрады вели четыре или пять ступенек. Так как у меня закружилась голова, я не заметил их и едва не упал, и господин Обер любезно сказал: «Осторожнее, мальчик мой, ты упадешь!» – а потом спросил, где я получил такую блестящую подготовку. Я без лишней гордости отвечал ему, что единственным моим учителем была матушка, и вышел, растерянный, но счастливый – ведь он со мной заговорил!
На следующий день утром матушка получила официальное письмо: я стал учеником консерватории. В то время в почтенном заведении было два преподавателя фортепиано. Подготовительных классов еще не существовало. Этими двумя наставниками были господа Мармонтель и Лоран. В класс ко второму из них меня и направили. Я проучился два года, попутно получая классическое образование в колледже, а сольфеджио изучал у блистательного господина Савара.
Мой учитель господин Лоран получил первую премию по фортепиано при Людовике XVIII. Он поступил было офицером в кавалерию, но потом оставил армию, чтобы сделаться преподавателем Королевской музыкальной консерватории. Его доброта была, если можно так выразиться, идеальной, в полном смысле этого слова, и между нами установилось полное доверие.
Что касается господина Савара, отца одного из моих бывших учеников, лауреата Римской премии, ныне директора Лионской консерватории (директор консерватории! Мог ли подумать, глядя, какими были мои ученики, кем станут они теперь!), то он, Савар-отец, обладал просто невероятной эрудицией.
И сердце его было достойно его ума. Я люблю вспоминать, как, когда я пожелал изучать контрапункт, чтобы поступить в класс композиции, где преподавал Амбруаз Тома, Савар согласился давать мне частные уроки, и проходили они у него дома. Каждый вечер я спускался с Монмартра, где жил, и шел в дом номер 13 по улице Вьей-Эстрапад, что за Пантеоном.
И какие чудесные уроки я получил от этого человека, одновременно великодушного и знающего! С каким воодушевлением следовал я по этой дороге, до павильона, где он жил и откуда я возвращался ежевечерне около десяти часов, переполненный превосходными советами, что он мне давал. Как я уже говорил, ходил я пешком, не садился даже на империал омнибуса, чтобы хоть как-то оплатить со своей стороны уроки, которые желал от него получить. Я решил использовать сей метод, так как тень великого Декарта реяла надо мной.
Однако представьте себе деликатность этого человека с большим сердцем: когда пришел час заговорить о том, сколько я ему должен, господин Савар заявил, что у него есть работа, которую он хотел бы мне доверить. Нужно написать симфоническую оркестровку аккомпанемента к военной музыке из мессы Адольфа Адана. И добавил, что выполнение этого задания принесло бы мне три сотни франков.