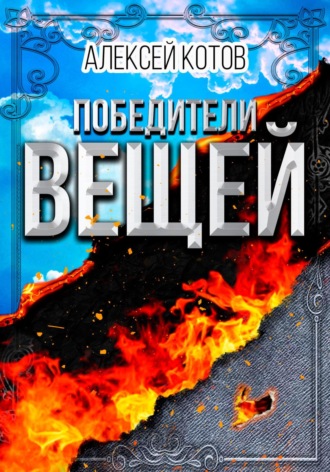
Полная версия
Победители вещей
Обращение селян в прокуратуру ни к чему не привело. Закон не то чтобы не хотел связываться с заезжими уголовниками, он просто-напросто крайне неохотно поворачивал голову в сторону обиженного народа. У закона было множество своих, так сказать, личных дел, но ему все-таки нужно было показать, что он есть и поэтому милиция возобновила штрафы. Их почему-то брали только с селян и не трогали уголовников.
Борец за всеобщее равенство Иван Ухин сник и какое-то время не показывался на улице. Между тем «племянник» Тимофеевны быстро и на зависть всей деревне расширил производство своего самогона и практически прекратил его закупку у селян. Зависть мужиков превратилась в алкогольную тоску, и многие из них принялись хлебать свое доморощенное спиртное сами. Например, за пару недель дикого запоя Иван Ухин уничтожил почти весь свой запас не очень-то качественного спиртного не успевшего пройти очистку по методу бабушки Тимофеевны. Сивушные масла, страшное умственное и физическое напряжение принесло свои плоды: Иван вдруг понял, что движущей силой экономического производства является не соцсоревнование с его грамотами и копеечными премиями, и даже не объединение людей в простодушный колхозный коллектив, а жесточайшее, лишенное намека на гуманность, капиталистическое соперничество. Бывший коммунист Иван Ухин сжег свой партийный билет на синем спиртовом пламени и поклялся стать беспринципным дельцом. За окном лил проливной дождь. С треском ударила молния, и в доме погас свет. От руки Ивана с зажатым в ней горящим партбилетом, на стене рядом с телевизором, плясали жуткие, средневековые тени, напоминающие взлохмаченных ведьм.
– Все!.. – прошептал самому себе Иван. – Вы, сволочи, мне всю жизнь врали, а вот теперь я дураком быть все-таки перестал.
Тут он, не глядя на сатанинские, средневековые тени широко и истово перекрестился и, хотя женины иконы висели на восточной стороне комнаты, низко поклонился пустой западной стене…
Между тем «фирма» Тимофеевны, возглавляемая «племянником», в погоне за сверхприбылями, давно забыла о бабушкиных травах и стала впрыскивать в самогон супердешевую, заграничную «химию». Новая добавка имела довольно приятный запах, но наутро валила людей с ног страшной головной болью, а кое-кого, цепко ухватив за желудок, пыталась еще и вывернуть наизнанку. Отдыхающие «боровички» страдали, но продолжали пить. Увы, но людская разобщенность, наспех украшенная витиеватыми речами Михаила Сергеевича Горбачева, как нищенская сума дешевыми картинками, царила не только в Верхних Макушках, а во всей стране, так сказать в целом. Народ был похож на хрупкую сталь, но совсем не из-за своей природной слабости, а из-за обманутых надежд. Эту «сталь» закаляли не раз, не два и даже не десять, ее «закаляли» до тех пор, пока между зернами металла не образовалась пленка окислов. «Пережженная сталь» стала хрупкой, как стекло и была годна только в переплавку.
«Племянник» и его дружки продолжали слизывать сверхприбыли до тех пор, пока не пустили в «производство» раздобытую где-то по дешевке машину свекольной патоки трижды перешагнувшую срок годности, но годности не в смысле ее употребления, а в смысле безопасной утилизации на свалке. «Сытые боровички» наконец-то проснулись и вспомнили, что заповедь «не убий» обращена не только к людям вообще, но и к бесчестным продавцам в частности. Когда вдруг среди возмущенных селян оказалось немало здоровых, рослых мужчин из «Боровичков» Иван Ухин понял, что пришло его время. Несмотря на то, что отдыхающие ушли, так и не выяснив отношения с «племенником», Иван, тем же вечером, прихватив с собой Витьку Кузьмина, – как доказательство и первопричину общественной беды – и сумку с оставшимися бутылками, направился в «Боровички». Витьку грызла совесть, он не сопротивлялся и только шмыгал носом.
Устная агитация Ивана в виде явно приукрашенной правды о злодейской «фирме», к тому же щедро сдобренная сносным самогоном, усилила кипение страстей среди отдыхающих. Следующей же ночью селяне были разбужены шумом драки возле дома Тимофеевны. Люди с надеждой прильнули к окнам. Уголовники оказались не такими уж крутыми ребятами и быстро проиграли бой. Разгневанные «боровички» побили спиртозаводчиков ногами, (тут почему-то больше всех досталось хроническому неудачнику Витьке Кузьмину), а затем попытались поджечь дом Тимофеевны. Увидев, что битва практически закончилась, селяне выползли на улицу. Они спасли старушку, потушили горящую крышу, а «племянник» и его подельники – черт бы их побрал! – исчезли без следа в ту же недобрую, но все-таки справедливую ночь.
Иван Ухин торжествовал. Как пробудившийся после долгой спячки вампир, ночами и в одиночку, он пробирался в «Сытые боровички» и предлагал свой товар за полцены. Отдыхающие «боровички» уже в полной мере вкусившие химической отравы в виде самогона из патоки сначала не верили Ивану, но тогда бывший коммунист и теперешний «беспринципный делец» открывал бутылку и начинал пить самогон сам. Осторожно, шаг за шагом, как трудолюбивый, но не очень-то желательный на огороде крот, двигался Иван к своей цели. Его самогон снова начали покупать… За Иваном потянулись и другие селяне – нужно было как-то жить, а нищенская зарплата обеспечивала минимум потребностей и будила максимум нелегальных способностей.
Вскоре снова встал вопрос об «общественной бочке» и на этот раз он был решен тихо и без скандала – ее вернули Ивану. Среднестатистическое качество верхнемакушкинского самогона неуклонно повышалось. Народ умнел буквально на глазах. Народ становился суровым, молчаливым и постигал азы рыночных отношений, в отличие от «кремлевских мечтателей» и прочих политических небожителей, не в политических лабораториях крикливых и дешевых газет, а в условиях жесточайшей экономической практики. Проблемы были просто огромны. Например, селян мучила бедность и нехватка знаний по химии. В общем, занимаясь нелегальным бизнесом, верхнемакушкинцам приходилось обходиться только скромными личными сбережениями, а научный план развития производства им подсказывала древняя Тимофеевна.
Время шло, и экономическое положение страны становилось все хуже. Руководство «Сытых боровичков» чтобы хоть как-то свести концы с концами, перевело базу отдыха на круглогодичный режим работы. Ее главная длинная «пятиэтажка» гостиного типа и двадцать три бревенчатых домика распахнули свои двери перед отдыхающими, привлекая зимним замороженным воздухом и демпинговыми ценами. «Боровички»-отдыхающие – пусть теперь их было немного, да и приезжали они в основном на выходные – стали появляться на «базе» и зимой. Они катались на лыжах и сверлили лед на речке Синей не столько ради рыбалки, а, так сказать, сколько во имя ее.
Зимняя продажа спиртного значительно уступала по объему летней и едва не стоила Ивану Ухину жизни. Продав под Новый год одиннадцать бутылок (из трех ему пришлось отхлебнуть, а еще две распить с одиноким отдыхающим), Иван вдруг понял, как далека заснеженная лесная дорога из «Сытых боровичков» до родного дома. Спотыкаясь и падая, он относительно благополучно преодолел первую часть пути, но потом вдруг его перестали слушаться ноги. Иван удивился, но не собственному бессилию, а тому, как глупо, оказывается, ему приходится умирать. То, что еще можно было назвать волей к жизни, поставило Ивана на карачки, и он пополз. Иван плохо видел дорогу, часто сползал куда-то в сторону, царапал там лицо о придорожные кусты и плакал злыми, бессильными слезами. Скоро он потерял варежки и его руки стали похожи на красные гусиные лапы. Уже увидев огни Верхних Макушек, Иван вдруг понял, что силы ушли совсем. Он сел и принялся колотить ушанкой по непослушным ногам. Страх смерти, собственно говоря, не очень-то беспокоил пьяного Ивана, но его пугало ощущение внутренней пустоты, которая вдруг расширилась до того, что стала захватывать пространство вокруг него. Иван подумал о том, что, если он умрет, не будет даже этой пустоты. Не будет ничего… Пустота была последнее, что он ощущал, и это последнее скоро станет настолько огромным и бесконечным, что ему никогда не будет конца. Никогда-никогда-никогда!.. Не будет целую вечность. Иван вдруг понял, что такое вечность. Короче говоря, одно дело ощущать холод снаружи и совсем другое изнутри. Пришел спасительный ужас, он и погнал Ивана дальше. Припорошенная недавно выпавшим снегом дорога была похожа на лог между крутыми валами-сугробами, а черные деревья – на кресты с оторванными поперечинами.
Очередной сугроб перегородил Ивану дорогу и, перебираясь через него, он вдруг почувствовал под собой что-то мягкое и упругое. Раскидав сугроб, он нашел в нем маленькую и скорченную фигуру. Еще не понимая, кто это, Иван увидел валенки на ногах человека. Валенки были большими, белыми и, судя по всему, толстыми и теплыми.
Человечек зашевелился и выругался едва слышным голосом.
– Витька, ты, что ли?.. – удивился Иван.
– Чего тебе? Уйди!.. – нехотя ответил Витька Кузьмин.
– Вставай, – твердо сказал Иван соседу. – Пошли домой, дурак.
Он сказал это так, словно он и Витька засиделись в гостях. Взгляд Ивана снова застыл на валенках. Витька приподнялся на локте и огляделся вокруг. На его лице появилось нетрезвое и поэтому преувеличенное изумление.
– Вставай, гад! – уже с надрывом выкрикнул Иван.
Витька Кузьмин – гибкий и худой, словно подросток – нехотя встал, помог встать Ивану и принялся зачем-то отряхивать его спину. От Витьки сильно пахло спиртным.
– А я это… Думал, что дома, – виновато улыбаясь, сказал он.
– Пошли, ну тя к черту! – хрипло и зло сказал Иван. – Я уже ног под собой не чую.
Идти вдвоем было легче. Мужики поддерживали друг друга и даже если падали, то падали вдвоем, и не до конца, то есть не лицом в землю, а только на колени. И каждый раз взгляд Ивана Ухина упирался в теплые валенки Витьки…
Этот случай как-то странно подействовал на Ивана. А может быть, он просто пытался забыть тот ужас, который испытал на зимней дороге?.. Короче говоря, на следующий день Иван принялся расспрашивать старушку Тимофеевну о секретах ее трав, чего никогда не делал раньше. Тимофеевна отвечала охотно, но уже скоро Ивану пришлось записывать то, что говорила старушка. Тимофеевна никогда не пользовалась весами и ее технологические меры веса (или объема) – горсть, щепоть, щепотка, «три былинки», «два нутра цветка» требовали примера. Иван купил точные аптекарские весы и взвешивал старушкины «щепоти» и «щепотки», но частенько они сильно разнились. Иван подробно выспрашивал почему. Тимофеевна затруднялась с ответом, но потом Иван понял все сам. Оказывается, все дело было в плотности «материала». Щепотка лепестков весила меньше листьев, а корни растения были всегда тяжелее «нутра цветка». Иван создал целую «систему мер» бабушки Тимофеевны. Она была сложной, запутанной и требовала максимальных умственных усилий. Иван аккуратно складывал тоненькие пучки трав и записывал на прикрепленных к ним листочках странные, древние названия и «меру веса».
– Валенки, валенки, – бездумно шептал Иван, рассматривая свои записи о травах. – Вот ведь чертовы валенки!..
Наверное, он не смог бы признаться даже самому себе, что именно привлекает его в теперешнем занятии: сами ли травы, спокойное ли занятие ими вдали от суетных людей или… тут автору трудно найти нужные слова… или все-таки то едва ли не одичалое внутреннее напряжение мысли и желание понять… Но понять, что именно? И какое отношение имело к занятию травами нелепейшее воспоминание Ивана о Витькиных валенках, которое – раз за разом! – тупо и настойчиво, появлялось в голове Ивана?
Иногда он расспрашивал Тимофеевну о ее вере в Бога… Но ее ответы были настолько просты, что были похожи на детские сказки. Впрочем, со временем он стал спокойнее. Потом Иван вдруг вспомнил, что раньше их село часто посещали «боровички» и покупали старые иконы. Их продавали многие селяне, кроме Тимофеевны. Запасаясь знаниями, словно готовясь в далекую дорогу, Иван стал расспрашивать Тимофеевну о тех рецептах, о которых рассказывала ей ее мать и, – как бы это странно не звучало! – снова и снова о ее вере в Бога. Рецепты матери Тимофеевны он записывал в отдельную тетрадку и для проверки, через день или два, проверял рецепт новыми расспросами, что же касается вопросов о вере, то они словно исчезали внутри самого интересанта словно за глухой стеной. Иван и сам не понимал, зачем ему это нужно. Так, понимаешь, ерунда, конечно, все это… Например, ведь сказано же было людям «не убий», а они убивают, сказано «не укради», а они – воруют. Чего стоит слово, произнесенное зря?
Расспросы продолжались несколько месяцев. Увлеченный Иван не замечал, что старушка день ото дня слабеет. Она уже не ходила по дому, как раньше, а садилась утром на кровать, подпирая спину подушкой, и ждала Ивана. Тимофеевна все чаще улыбалась ему какой-то удивительно беззащитной улыбкой и, казалось, не к месту часто говорила: «Слава Богу!» Иван вдруг заметил, что подобные восклицания старушки начинают его раздражать и он стал реже ее беспокоить.
Тимофеевна умерла в апреле. Дома был только Иван. Он стоял на коленях возле кровати Тимофеевны и пытался накормить ее манной кашей. Старушка сплевывала кашу, смотрела куда-то мимо Ивана огромными, счастливыми глазами и шептала неразборчивое и такое же счастливое. Иван перепугался и бросился искать жену. Люба задержалась в магазине (какая баба не любит языком почесть?), а, увидев Ивана, вдруг потемнела лицом и поняла все без слов.
Пару часов Иван стоял у двери в комнату, в которой умерла Тимофеевна. Он думал о том, что огород старушки год от года стараниями соседей, становился все меньше и меньше, и что к ней никогда не приезжали родственники. Всю свою жизнь Тимофеевна прожила тихо и мало кто знал, что с войны вернулся только один ее сын. Но покалеченный ею, обезноженный и спившийся, он сгинул где-то на глухом сибирском полустанке.
«Вот значит и все, – подумал Иван о Тимофеевне. – Все – и ничего больше. А дураки говорят, что Бог – есть. Ах, же сволочи!..»
Ему вдруг стало тоскливо. Иван почему-то снова вспомнил о валенках Витьки и неумело, как-то по-детски отрывисто, перекрестился. Явное несоответствие между ругательством и крестным знамением ни капли не покоробило его. Наверное, Иван все-таки верил в какого своего, особого бога, которого знал только он. А, впрочем, разве только он нашел такую веру, как, например, когда-то нашел Витьку и его валенки на дороге?..
Из комнаты вышла Люба и сказала только одно и так маячившее в мозгах Ивана слово – «все», подтверждая мысли мужа. Иван содрогнулся. Темнота за дверью комнаты, в которой лежала Тимофеевна, стала огромной, как бездна и в этой бездне могли пропасть без следа миллионы миллионов людей и миллиарды миллиардов валенок.
«Все!..» – уже с откровенным ужасом подумал Иван.
Он закрыл рукой лицо, и уже собрался было застонать от этого ужаса бездны и ощущения вечности, как вдруг Люба спросила его:
– Дальше-то, что, Ваня?
Вопрос прозвучал буднично, спокойно и подействовал на Ивана так, словно на его голову вылили ведро ледяной воды. Дальше нужно было просто жить, и даже думая о похоронах и поминках, принимать их с прежним будничным спокойствием.
«Что б, значит, на похоронах все было не хуже, чем у других людей», – тут же успокоившись, решил Иван.
Неопределенная тоска ушла. Впереди была работа, и даже похороны уже не казались ему чем-то иным, отличным от обычной жизни.
Самогонный бизнес верхнемакушкинцев, пройдя через множество страданий, стал наконец-то приносить свои тучные плоды. Через три года Верхние Макушки запестрели не только новыми крышами, но и новыми мансардами, похожими на цыганские кибитки. Гаражи, крохотные балкончики и пучки антенн на оцинкованных крышах рассказывали покупателям верхнемакушкинского самогона о том, что их деньги не пропадают даром. Новые рыночные отношения меняли людей. Кое-кто из мужиков резко сократил количество скота и птицы, предпочитая возделывать на своих наделах и участках сахарную свеклу. Жизнь казалась им радостной и удивительной… Правда, общественное мнение верхнемакушкинцев немного тревожил наивный диссонанс. Производство самогона ни в коей мере не гармонировало с модным тогда перестроечным словом «гласность». Скорее даже наоборот, изготовление нелегальных спиртных напитков требовало ночной тишины и аккуратных, двусмысленных намеков в переговорах с покупателями. Производственная деятельность верхнемакушкинцев все глубже опускалась в нежилое подполье.
Грянувшая в 1991 году августовская победа демократии была воспринята селянами в несколько ином свете, чем, скажем, жителями Москвы. Они с удивлением заметили, что отдыхающие в «Сытых боровичках» вдруг стали испытывать непреодолимую тягу к случайным половым связям. Сексуальная революция, как и демократическая, казалось, пришла ниоткуда, но сразу же объявила себя победительницей и заулыбалась с экранов телевизоров и цветных обложек журналов тысячами высоко профессиональных улыбок. И если последствия демократической революции верхнемакушкинцы ощущали слабо (а, честно говоря, не видели их вообще), то сексуальная революция оказалась куда более реальной и настолько бурной, что не уместилась ни в домиках и номерах «Сытых боровичков», ни в густых зарослях на берегах речки Синей, ни даже в лесу. Половой, если можно так сказать, бунт в сознании людей, не смотря на всю свою пылкость, все-таки требовал комфорта в виде постели, крыши над головой и мало интересовался речными камышами и лесными кустами.
Верхнемакушкинские мужики почесали затылки. Опыт подсказывал им, что безвыходного положения на рынке товаров, а как теперь вдруг выяснилось, и услуг – не бывает. Загвоздка заключалась в том, что новый вид услуг требовал, так сказать, куда более тонкого и индивидуального подхода к клиентам.
«С собой-то их, в смысле «боровичков», в одну постель, не положишь, – рассудил кто-то из сельчан. – Да и в дом не пустишь, там дети… Что делать-то будем, а, граждане?»
Извечный вопрос «что делать?» породил извечный ответ: «А что надо, то и будем».
Вот так рыночные отношения снова подмяли под себя селян, ведь спрос не только рождает предложение, но еще и разжигает финансовый аппетит.
«Самогонный бизнес» подувял из-за буквально хлынувшего в страну дешевого спирта. Уже на его излете сельчанам удалось провести кое-какую рекламную компанию среди «боровичков», что, мол, влюбленные парочки могут найти временный уют в Верхних Макушках. Всплеск половой активности «боровичков» оказался настолько высоким, что тут же оттеснил на задний план умирающий самогонный бизнес. Верхнемакушкинцы сдавали на ночь (а днем по часам) пустеющие сараи, курятники и сеновалы. Самогонный запах, еще недавно казавшийся вечным, поблек над всеми деревенскими подворьями, а ночи вдруг стали пахнуть мужественными одеколонами и утонченными, хотя и немного нервическими, дамскими духами. То тут, то там из темных углов доносились слова полные страсти, а то и просто мужское мычание, переполненное откровенным желанием. Верхнемакушкинцы перестали смотреть в глаза друг друга, по ночам пересчитывали деньги и запрещали детям моложе двадцати восьми лет выходить по вечерам на улицу.
Не совсем верное видение селянами демократических преобразований смог исправить брат Ивана Ухина Макар, вернувшийся из Москвы с удостоверением защитника Белого Дома. Он прочитал большую и страстную лекцию застывшим в очереди перед пустым магазином селянам. Уже заканчивая ее, Макар невольно скомкал трагическую концовку, рассказывающую о вечном стремлении человечества к свободе, – к магазину наконец-то подъехала машина со скудным товаром.
Нужно заметить, что все-таки Макар был выслушан со вниманием. Особенно сильно верхнемакушкинцев удивил тот факт, что, оказывается, во время антидемократического путча кооператоры и начинающие бизнесмены-любители раздавали восставшим «боровичкам» (а по-иному селяне и не видели горожан) бесплатные пирожки. Необычайное единение народа перед отжившей властью, произвело на селян благоприятное впечатление и героического Макара «на ура» выбрали новым председателем сельсовета.
Три следующих года в Верхних Макушках прошли относительно спокойно, правда, в стране в целом царила полная политическая неразбериха. Но селяне почти не обращали на нее внимания: они гнали самогон, расселяли на ночь по сараям парочки, и лениво ждали очередного поворота московской политической то ли драмы, то ли комедии. Но, как выяснилось вскоре, это зрелище не было бесплатным. Пожилое поколение верхнемакушкинцев вдруг стало крайне нерегулярно получать пенсию, а сама денежная сумма постепенно превратилась ни во что. Юные и прожорливо-хищные рыночные отношения свирепствовали уже не только в экономике и сфере услуг, но захватили страну целиком и первым делом выбирали в качестве жертв наименее защищенных граждан. Задолго до выплат деньги пенсионеров переносились из одного чиновничьего кармана в другой, кружили по стране в замысловатом вихре и где-то там, – в финансовых облаках новорожденных частных банков – превращались в благодатный дождь процентов прибыли для избранных.
База отдыха «Сытые боровички» переходила из рук в руки и хирела все больше и больше. А отдыхающих становилось все меньше и меньше. Кое-кто из ее прежних обитателей – явное меньшинство, сумевшее вынырнуть из накатившего на бывший Союз девятого вала капитализма, – зачастили в Турцию и Таиланд. Остальные сидели дома без работы, не зная, как свести концы с концами.
Летом 1996 года «Сытые боровички» закрылись совсем. Это был удар в спину. В пустых сараях верхнемакушкинцев пылились никому не нужные бутыли с высококачественным спиртом, а на койках, предназначенных для любовных утех, спали беспризорные кошки. Только треть селян, которая не до конца забыла свои крестьянские привычки, то есть держала скотину и не забросила огород, устояла на ногах. Те же, кто развесили по стенам бывших телятников и свинарников ковры и украсили их окна шторами, были повержены в прах.
Иван Ухин рычал от бешенства и открыто ругал первого Президента обновленной независимым (независимым черт знает от кого и чего) финансовым капиталом России. Председатель сельсовета Макар обходил брата стороной и избегал смотреть ему в глаза. Если Ивану и удавалось поймать за рукав норовившую ускользнуть от прямого ответа «власть», та предпочитала отделываться общими политическими заявлениями. Словесная шелуха Макара была похожа на мини-купальник красавицы, рекламирующий крем для загара. Казалось бы, не скрывая почти ничего, тем не менее, она ясно давала понять, что как раз главное (о котором никто не говорит вслух) стоит немалых денег. Но денег у селян не было. Иван Ухин вложил все свои средства в приобретение домашнего спиртзавода и обеспеченное сытое будущее ускользало от него со скоростью выше названной рекламной красотки, вдруг решившей проявить циничный практицизм. Иван Ухин вспомнил бесплатные пирожки, о которых когда-то рассказывал брат. Мысль, что теперь именно он, Иван Ухин, должен расплачиваться за эти идиотские пирожки из своего кармана, казалась селянину ужасающе несправедливой.
Разоренный спиртозаводчик поднял восстание. Пострадавший от экономического эксперимента народ поддержал его, и Макар был с позором свергнут с пьедестала власти. Поверженный «демократ» оказался удивительно жалок, а еще более глуп, когда дело коснулось финансовой отчетности перед восставшим народом. Вскоре, приехавший из райцентра следователь обнаружил, что Макар попросту спёр деньги, предназначенные для строительства сельского газопровода. Сумма была немаленькой, поскольку деньги сдавали все, а расценки на услуги Газпрома, как выяснилось, Макар устанавливал сам. Но удивлял не сам факт воровства, сколько та бездумная, бесшабашная наглость, с которой были украдены деньги. Судя по всему, Макар собирался продержаться у власти неопределенно долгий срок и не опасался перевыборов, какими бы демократическими они не казались.
Народ торжествовал, но уголовное дело против Макара заглохло само собой. Бывший председатель сельсовета удрал в город, а еще через пару недель в областной газете вдруг появилась большая статья, обвиняющая следователя в политическом преследовании бывшего защитника Белого Дома Макара Ухина. Дело грозило перерасти в шумный политический процесс. Рука Фемиды слепо ощупала политический кукиш и стала по стойке смирно, громыхнув весами и бесполезными, хотя и весомыми, гирьками фактов и доказательств.
Верхние Макушки погрузилась на дно финансового краха… Впрочем, вскоре блеснул луч надежды – уже в следующем году «Сытые боровички» вновь открылись. Это был очередной частный бизнес, но уже решивший вспомнить порядком забытую специализацию заведения. Как бы ни гримасничала политика и экономика, мода на стройную юность, подтянутую взрослость и молодящуюся старость всегда парила над имущими гражданами невесомыми и очень дорогими облачками. В «Сытые боровички» снова стали съезжаться объемистые толстяки и толстушки.
Верхнемакушкинцы потирали руки и ждали приглашения на работу дворниками, разнорабочими, прачками, посудомойками, горничными и истопниками. В отличие от полулегальных, эти экономические связи хотя и приносили меньший доход, но давали большую стабильность. Пределом мечтаний каждого селянина была должность завхоза. Что удивительно, никто из верхнемакушкинцев никогда не достигал этого предела карьеры, тем не менее, мечта продолжала жить. Жить вопреки здравому смыслу. Тут, разумеется, можно упрекнуть селян в отсталости, ведь они еще верили в то, что европейский ветер политических перемен не вымел до конца боярские социалистические чуланы, вечно закрытые на учет магазинные кладовые и гаражные чуланы начала 90-х годов. А разве для такой работы не требовались совсем маленькие и все понимающие исполнители?.. Увы, но наивность народа, по крайней мере ее корни, могли бы посоперничать в вопросе жизнестойкости с любым сорняком.









