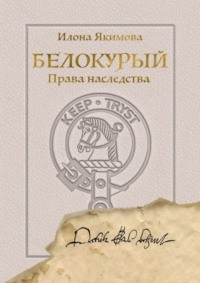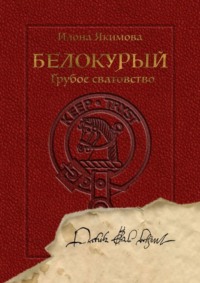Полная версия
Младший сын
– Довольны ли вы обедом, мой господин? – мимоходом осведомилась леди-мать, складывая на край блюда ложку и нож. Соединяясь вместе, предметы прибора издали звук, схожий с лязганьем оружия.
Удивительно она умела делать вид, что все благополучно, хотя камеристка ее Роуз уже ходила с красными, сухими от соли глазами, а ведь и суток не прошло, как Босуэлл вернулся домой.
– Вполне, благодарю вас.
– Коли так, надеюсь, и сердце в вас помягчает, не токмо желудок, – обронила графиня безжалостно точно. – Радость вашего возвращения к нам, о муж и отец, да не умалится жаром вашего гнева на малости наших прегрешений. Особливо несуществующих…
Взор, которым наградил ее граф, был достоин кисти лучшего живописца. Жалею, что не могу точно его описать. Скажу одно, на любимую женщину, на женщину вообще так не смотрят. Мать никогда не забывала, что снизошла. Отец никогда не забывал, что кровь сыновей выше, чем его собственная. Пожалуй, он и мстил нам ровно за это. И выждал, покуда леди-мать первой покинула холл – ей предстояло управиться со сбором невестиного скарба назавтра. Падчерица и дочь госпожи графини встали было за нею следом, однако отец поднял взгляд от тарелки:
– Девицы!
Те снова присели.
– Джоанна!
Нота тепла, возникавшая в его голосе, как луч солнца в холодной воде, едва он смотрел на Джоанну, каждый раз меня удивляла. И наполняла завистью нас всех, всех пятерых, готов в том поклясться. Ну, хорошо, кроме Маргарет – та вообще никому не завидовала, святая.
– Джоанна, поди сюда… вот, возьми! – он вынул нечто из поясного кошеля, протянул дочери. – Мой маленький дар тебе, завтра будет большой… ты станешь леди Ситон, я рад. А ты?
– Благодарю вас, отец. Как вам будет угодно, отец, – но она лукавила.
Взгляды, которые Джоанна бросала на Джорджа Ситона, могли каменную стену прожечь. Лорд-адмирал так и понял. И усмехнулся:
– Джоанна была бы лучшим мужчиной, чем трое вас, взятых вместе, – сказал он сыновьям за нижним столом. – Она одна меня не боится… настолько, что не боится врать. Не так ли, девонька?
Джоанна улыбнулась, и столько ненависти, столько превосходства на миг отразилось в ее лице… мы могли творить что угодно до тех пор, пока отец говорил о ней – о ней одной – в таком тоне. Ничто бы из наших подлостей не могло бы задеть ее.
– Ну, я этой суке припомню, – произнес Патрик вполголоса, Уилл согласно кивнул.
Господину графу доставляло удовольствие стравливать нас между собой, но те двое этого так и не поняли – до самой смерти родителя. Он называл нас – свора. Впрочем, мы такими и были. Девиц же из круга своего неусыпного внимания граф выключал, девицам было достаточно хорошо выглядеть, чтобы заслужить его одобрение, а уж если удавалось чуть-чуть вышивать и читать! Джоанна, впрочем, недурно держалась в седле и еще лучше стреляла из арбалета, умения, заметим, не самые обыденные для благородной девицы.
– У тебя осталось полдня, – сообщил я вполголоса, – иначе придется иметь дело с Ситоном. В кости ты шире, но рука у него длинней. Да и старше тебя он в два раза.
Мне прилетело, но я увернулся, Патрик выругался сквозь зубы.
Однако это привлекло внимание господина графа к нижнему столу:
– Адам, как там было дело, с тем кабаном? Ваша мать сказала, что его добыл… Джон?!
Имя мое прозвучало, окрашенное недоверием и брезгливостью.
– Так и есть, милорд, истинный крест. Мы гнали зверя около суток, дважды теряли след, потом свора взяла его снова…
– И Джон все сделал сам от начала и до конца?
– Ну… я немного помог ему… в самом конце.
Адам, эх, Адам… он не мог бы солгать даже ради спасения собственной души, однако в тот раз похоронил меня заживо своей честностью. Не думая о том, что ложь все равно бы вскрылась, как же я хотел тогда, чтобы он солгал!
– А так он все сделал сам. Видели бы вы, как ловко он управляется с эстоком, милорд!
– Значит, это все же был ты.
От того, как он сказал это, в зале примолкли кинсмены – и люди Крейгса, и наши, и долгополые, прибывшие с епископом. Слова господина графа пали каменной плитой на нас двоих, но Адам еще не чувствовал веса:
– Джон выследил кабана и подколол его, я только добил. Ему просто еще не хватило сил, я бы в его возрасте тоже не справился с этакой тварюгой. Я только помог! Ему всего десять, зверь мог бы растерзать его.
– Мне нет дела до того, что могло бы быть. Сперва ты под свою ответственность взял мальчишку на кабана, рисковал его жизнью, а после утверждаешь, что сопляк и добыл его. То есть ты солгал?
– Нет.
– Ты солгал своему отцу. Подойди.
Я похолодел. Я знал, что за этим последует. Но Адам двинулся к помосту все равно.
– Благородному человеку не следует лгать своему отцу.
Он не повысил голоса, замах был молниеносен и почти не виден – только Адам пошатнулся, и струйка крови показалась на его верхней губе. Но поклонился отцу и вернулся вниз, к нам. Глаза его пылали, он молчал.
– Прости меня! Пожалуйста, прости!
Он взглянул на меня так, словно я сказал какую-то дикость:
– Ты просишь прощения за то, что он ударил меня? Я просто сказал правду.
– Но ведь из-за меня же! Если бы ты не стал меня защищать…
– Если бы я не стал тебя защищать, я был бы подонок. Ты же мой брат.
Честь благородного человека была дана мне не по праву рождения, но по праву братства. Тогда я ощутил это очень явно. Однако времени для упоения честью господин граф выдал мне не особенно много, теперь он смотрел на меня, и я, повинуясь странному чувству протеста, не мог отвести взгляд.
– Джон…
– Милорд…
Такой небольшой человек, так много места… везде – в нашей жизни, в собственной судьбе, в моей памяти. Сухая живость внутреннего огня, темные глаза, аккуратно подстриженные усы и бородка, обрамляющие тонкогубый рот, ни следа залысин, но белесые клинья седины на висках. Его трудно счесть красивым, но не запомнить определенно не сумеешь. Я ясно видел его руки, разбирающие куропатку на блюде – косточка за косточкой. Только что эта рука нанесла удар самому близкому существу и вот вернулась к обычному из мирных занятий, к трапезе – как так? Я тоже хотел подобного равновесия.
– Ты поступил как глупец, отправившись с Адамом охотиться на кабана, ибо не обладаешь должными навыками для того, чтоб делать это правильно, размеренно, верно. Ты слаб, твой разум неустойчив. Что толкнуло тебя к подобной детской глупости?
– Мое рождение. Мое предназначение, милорд.
Казалось, он удивился:
– И в чем же оно?
Давешний разговор с Адамом в лесу ударил мне в голову:
– Быть рыцарем. Разве это не единственно верно для вашего сына?
– Для моего сына – возможно… Но первое достоинство рыцаря – послушание, чем ты не благословлен именно от рождения. Всякий, желающий обучиться науке рыцарства, должен выбрать себе мастера для повиновения. Господина. Здесь, – молвил он, – твой господин – я.
Я молчал.
– Или, – прибавил он, забавляясь выражением моего лица, – можешь выбрать, чтобы служить, кого-нибудь среди своих братьев. Уилл и Патрик еще не посвящены, конечно, но вполне сведущи и…
– Адам, – сказал я без колебаний, – я выбираю Адама.
– Да только это все равно напрасно, и не приведет ни к чему.
– Почему же, милорд?
– Потому что ты ни на что не годен, Джон Хепберн.
Мне показалось, что сейчас имя рода он произнес с большим отвращением, чем имя собственное, как если бы соседство с моим марало и род.
– Ты ни на что не годен, – повторил он.
Я вышел из холла – на дворе еще стояло тепло, но мне показалось, что меня опустили в погреб. Двенадцать ступеней, двенадцать добрых дубовых досок, стертых и моими ногами также. За свои десять лет я выучил на них взглядом каждую щербину, ибо мне частенько приходилось опускать глаза. Теперь я опустил их, чтоб скрыть злые слезы.
Все как всегда. Я не знаю, кого мне нужно убить, чтобы отец переменил свое мнение.
Рука Адама внезапно легла мне на плечо, сжала, потом он притянул меня к себе, коротко потрепал по волосам и отпустил – наследнику Босуэлла ни к лицу выражать чувства прилюдно.
– Не бери в голову, Джон. Не противоречь. Не стой так явно у него на дороге. Возможно, он передумает. Я поговорю с ним. Леди-мать отмолит…
– Ты веришь в это?!
Кажется, я первый раз сказал ему это так, на равных. Впервые позволил себе горечь взрослых.
Адам взглянул на меня внимательно:
– Младший? А ты растешь.
– Да и как леди-мать отмолит, если они наверняка уже повздорили из-за Роуз? Видел, как она сложила ложку с ножом?
Посеребренная материна ложка служила ясно звучащим глашатаем войны, мы научились читать ее фигуры. Адам вздохнул, но не возразил, и повторил только:
– Ты, Джон, взрослеешь.
Приятная прохлада сыроварни, адское пекло хлебного жара в кухне старого Саймона. Говор Тайна за речной стеной, шепот ручья – за наружной. Мардж все-таки отнесла феям засахаренные яблочные шкурки. Я же снова прятался по темным углам и думал, думал, думал, как бы переменить сжигавшее меня несправедливое мнение обо мне. Я взрослею? Это так называется? Если взрослость – время большей боли, тогда конечно.
Едва наступил день, наступил и свет. Взревели трубы. Я скатился с постели.
Во дворе, наполненном влагой утра, уже происходило… еще вчера по теплу было лето, сегодня же воздух тонко напоен тленом. Чертыхаясь, я прыгал на одной ноге, натягивая сырые чулки и штаны, путаясь в шнурках дублета, ненавидя всех окружающих – почему не разбудили? Сегодня день свадьбы моей драгоценной сестры, понимаю, но неужели я настолько пренебрежим, что предпочли просто забыть в углу, как сломанного «сарацина», ненужную турнирную куклу? Тем паче, что он и предстоял, турнир.
В кухне кипело три дня подряд, прачки орали на мостках друг на друга, столы вносились в холл, из часовни несло ладаном, туда-сюда прыскали слуги в ливреях всех цветов. Повсеместно светились полумесяцы герба Ситонов, «вперед и в опасности!» – девиз, как нельзя более подходящий для нашей Джоанны. Двор люто шумел и переливался гомоном, говором, конским ржанием, окликами слуг, пажей, поварят с раннего утра. И только господа прохлаждались – как им положено. Господа ожидали церемонии бракосочетания и обеда. Его величество в компании Крейгса и господина графа, стоя во дворе на помосте, возведенном для зрителей к турниру, с видом знатока обсуждал новый доспех Босуэлла, сегодня доставленный от оружейника, латную рукавицу к которому, украшенную тонкой чеканкой, облекавшую руку легчайше, как кожа, не как металл, господин граф и предъявлял гостям. В полном – так и хотелось сказать боевом, но нет – церковном облачении дядя Джордж поднимался по ступеням ко входу в часовню, вероятно, принимать исповедь новобрачной, Джоанны, как и Ситона, нигде видно не было… Поднимался, предварительно похлопав по плечу Адама, встающего с колен перед королем, вкладывающего в ножны собственный меч.
Я остановился, как вкопанный.
Жест дяди, поза Его величества, вид отца, но самое главное – лицо и жест брата сказали мне достаточно. И это я пропустил!
– Куда лучше, – молвил Джеймс Стюарт, принимая ритуальный поцелуй руки от Адама, – согласитесь, Босуэлл, если и дружка невесты подходящего положения, не только дружка Джорджа Ситона? Будем считать это моим личным подарком вам к свадьбе дочери.
Посвящение в рыцари старшего сына. Наверняка отец желал бы отпраздновать это отдельным торжеством, но королю взбрело в голову – и он ударил клинком по плечу. Позавчера мимоходом унизил, сегодня вознес – отчего бы?
– Большая честь для нас, Ваше величество, – отвечал Патрик Хепберн, и видно было, очень вдалеке, за всеми скрывающими его истинное лицо словесными оборотами, что он тем не менее очень доволен. – И мой сын постарается ее оправдать службой на благо короля.
– Достаточно и того, что он просто будет мужчиной, – отвечал король, холодными глазами коснувшись сэра Адама, – подобным вам… не так ли, мой друг?
Как уверенно он оттенял это «друг» – буквально одним мгновением долее держа слово во рту— и я уверен, отец прекрасно слышал всякий раз, говоря с ним, что ничто не забыто.
Я рано понял, что «быть мужчиной» – это некая договоренность. И мне было довольно странно, что полусредние, как их называл Адам, играли в это всерьез. Адам, кажется, придерживался того же мнения, что и я, но с большей теплотой, посмеиваясь – он вообще посмеивался над жизнью, местами не воспринимая ее как нечто, заслуживающее пристального внимания, но лишь как противника, сдавшего откровенно крапленые карты. Фальшивая монета на столе – вот что такое жизненная удача, говорил он. Весьма необычные слова для молодого человека его лет, как я теперь понимаю.
Но тогда… тогда все прежние слова старшего брата отступили прочь. Тот же рост и стать, то же платье, никаких церемониальных одежд – видно было, что причуда короля их с отцом застала врасплох, но Адам стал словно бы выше ростом, шире в плечах. И плечи эти не согнутся под любым бременем. Неужели сегодняшнюю удачу он тоже назовет фальшивой монетой? У него отныне было не только право на власть – по праву рождения, но и сама власть также, власть, данная королем, которую никто, кроме короля, не смог бы и отнять, ни даже сам первый граф Босуэлл. Теперь быть мужчиной для него значило соответствовать. Новому титулу, новой роли и себе самому – в границах той новизны. Бабочка, едва высвободив крылья из кокона, сидит, притихнув, на солнце и ждет, пока они нагреются, расправятся, нальются соками, расцветут во всей красе. И только тогда она сможет лететь.
– Ступай, – велел ему, слегка оглушенному, граф, – приоденься. Пора разогреться, пока еще есть время до венчания.
И латная рукавица блеснула на его руке, когда указал путь. Ему тоже не терпелось опробовать новый доспех в сшибке.
Адам спустился с помоста и тут уже споткнулся о нас троих – ибо мои драгоценные братья Патрик и Уильям, конечно, присутствовали с самого начала. Меж старшими как бы ничего не переменилось, но Патрик глядел на Адама с плохо скрытой завистью. Впрочем, и пары мгновений ему хватило, чтоб оценить произошедшее к своей выгоде. Повышение Адаму – повышение прочим.
– Выходит, если ты – сэр, то я теперь мастер Хейлс… Звучит превосходно, – он попробовал это на вкус. – Но раз я почти рыцарь, то хочу оруженосца. Вот его.
Патрик обернулся и ткнул пальцем в мою сторону.
Отец промолчал.
– Обойдешься, – Адам, очнувшись, положил руку мне на плечо, – я возьму его себе.
– Жаль разочаровывать вас, дети мои, – молвил отец, ни к кому особо не обращаясь, глядя, как голуби вьются над башней Горлэя, – однако Джон не сможет служить ни одному из вас. Разве что Богу.
И улыбнулся.
И вслед за ним улыбнулись все – от последнего пажа до самого короля.
И почему я тогда подумал, что здесь всего лишь обычная его холодная шутка?
Конечно, я был смешон. Я смешон самому себе, когда вспоминаю встрепанного вихрастого мальчишку с заспанными глазами в пол-лица, обращенными к взрослым, как к солнцу. Мне бы следовало быть менее уязвимым, но таким уж я родился – содранной кожей наружу. Пришивать те лоскуты обратно – долгая работа, и не везде она далась мне с успехом.
– Вы… вы двое, Патрик, Уилл. Покуда ваш брат облачается, тащите сюда пару боевых посохов из оружейной! Ваш дядя Крейгс бахвалился новым приемом, вот пусть и покажет. Покажешь им, Адам? Посмотрим, на что вы годны… и не зря ли год пожирали хлеб кузена Хоума! Ну-ка, вставайте в круг!
– Милорд, дозвольте и мне! – прежде чем я понял, что сказал эти слова, они уже прозвучали.
– Что?! – глядя на меня с помоста сверху вниз, он казался вдвое выше. – Что ты сказал, Джон? Это ты сказал?!
– Дозвольте и мне… с ними. Если дядя Крейгс покажет…
– Тебе это ни к чему!
– Но отчего же?
– Нет смысла учить тебя, ты не годен к бою, ты слаб.
– Я… я выследил и подранил кабана позавчера, я могу! Я умею на палках! Меня учил Адам, пожалуйста! Разве я девчонка, что вы прогоняете меня с турнирного поля?!
Это был мой случай, и следовало схватить его немедленно. Если граф увидит, что я справляюсь, он простит меня. И за кабана, и за то, что родился его сыном. Это был мой последний шанс.
– Отчего бы нет, Босуэлл? – тут молвил король лениво.
Но плохо я знал собственного отца. Огонечек загорелся в его темных глазах. Со слов короля отказать мне он уже не мог, однако прощать не намеревался. Уилл с Патриком тащили к нам здоровенные, окованные на навершиях железом дубинки – боевые посохи, мы с Адамом тренировались на тех, что полегче, только лишь деревянных. Босуэлл коротко свистнул им:
– Эй, несите третий сюда! – и сказал мне. – Выстоишь против них двоих, найму тебе учителя мечевого боя.
Ни глотка воды во рту со вчера, ни куска хлеба. Зачем я встрял в эту бойню? Патрику четырнадцать, и он выше меня на полфута, Уилл, даром что младше Патрика, такого же сложения. Теперь уже я не мог отказаться. Но не убьют же они меня, мои братья? А колотушки… да мало ли я получал их в жизни! И – учитель фехтования! «Ты – unblessed hand, Джон» еще упоительно звучало в моей голове, хоть то был не голос брата, только дьявольское искушение. Я решил, что все могу, потому что тогда проще было умереть, чем отказаться. Мужественность всегда обретается ценою жизни. Если такова цена любви моего отца – я выиграю или умру.
Нас развели на круге, и бой начался.
Помню ли я, что происходило? Да, но предпочел бы забыть.
Когда посох Патрика или Уилла рассаживал мне коленную чашечку или щиколотку, с помоста раздавались аплодисменты и возгласы одобрения. Если же мне удавалось не только увернуться от обоих противников, но провести верный удар, в спину сквозило холодным молчанием. Даже наши, из Хейлса, поняв, что господин не рад мне, перестали орать, как обычно при палочной драке, и примолкли. Я чуял взгляд отца, упершийся в меня, вонзившийся, словно дротик, меня охватывал ужас, и раз за разом я ошибался. Тем верней ошибался, чем отчаянней боялся ошибиться, чем сильней старался быть точным. Два здоровенных бугая, мои богоданные братья, с упоением пользовались случаем избить меня на глазах у всех – с полного его одобрения. И вместе с тем, как я слабел – но не сдавался, крепла скрытая ярость, которую я ощущал в нем, – ярость, которую спустил с цепи мстительный Джеймс Стюарт… Сердце колотилось где-то в горле, мне не хватало дыхания, красным застилало глаза, когда я услыхал небрежно оброненное королем на помосте:
– А младший-то сдает!
Когда его убили пять лет спустя, клянусь, я не жалел ни минуты, разве что о Шотландии, но не о нем самом.
И это был конец.
Господин граф Босуэлл спрыгнул с помоста вглубь нашей драки и разметал сыновей, старших, как раз сбивших меня с ног подсечкой. Я помню над собой только глаза, сияющие лютой ненавистью, и тяжелую цепь с головой лошади у него на груди – гранаты и рубины в ней также кипели от гнева. Новенькая латная перчатка врезалась мне в скулу, тонкой чеканкой превращая левую часть лица в кровавое месиво:
– Вставай, сопляк, и сражайся! Или сдохни теперь же, ты не Хепберн, раз позволяешь бить себя! Вставай, сукин сын, подонок! Вставай и сражайся, кому говорю!
Собственно, все как всегда. Когда мне было восемь, он просто сбросил меня с моста в Тайн. И некоторое время смотрел сверху – под предлогом научения плавать. Течение там бурное, мне бы и пяти минут хватило. Сиганул за мной, конечно же, Адам, да вот еще, неожиданно, Уильям: первый потому, что понял, в чем дело, второй – из желания поразвлечься. В итоге Адаму выпало спасать двоих младших братьев, потому что Уилла закрутило и кинуло головой на камни. Один из любимых сыновей графа едва не утоп, но виноват был в этом, понятное дело, я.
Когда я думаю об этом теперь, то мне удивительно – какое же количество вины переполняло мою тогда еще маленькую, тесную жизнь. Удивительно, как я сам не захлебнулся в той, чужой вине.
Впоследствии в своих скитаниях по Бервикширу Адам брал меня вплоть до моря, до самого Тайнмута, и я выучился плавать весьма прилично. У него в крови было спасать меня – как дышать. Я долгое время только и дышал этой любовью.

Внутренний двор замка Хейлс, Ист-Лотиан, Шотландия
Но в тот день ни один из нас не хотел отступить: ни я – признать своей слабости, ни граф – признать мою новорожденную силу, и некому было нырнуть за мной. Мгновенья длились и длились, пока я корчился от боли на земле у его ног. Глаза, остекленевшие от бешенства, искаженное безумием лицо, пляшущая на дублете пьяным рубиновым огнем золотая голова коня… Я закрывал лицо локтями, чтоб не лишиться глаз или зубов – и тогда удары сапог обрушивались в живот, разбивая мне внутренности… но оскорбленная любовь во мне поднималась, как волна: если он не желает принять меня, тогда лучше не существовать вовсе! Я хотел умереть и сознавал, что лучшим способом сделать это было кинуться на него с ножом… только бы дотянуться до пояса! Но в тот самый момент, когда он каблуком встал мне на кисть, открывая мое лицо, чтоб обезобразить его окончательно, лицо, которое он так ненавидел, потому что считал чужим в роду… лицо моего деда, горца Хантли, лицо моей бабки, принцессы Стюарт… тень упала на меня вместо сокрушительного удара, удары вдруг прекратились – однако раздался его знаменитый рев:
– Прочь отсюда! Что ты себе позволяешь?! Кто ты таков, чтобы лезть не в свое дело?
Заплывшие глаза видели мутно, но я услыхал голос, в звучание которого даже не поверил поначалу, как в звук пения ангелов.
– Господин мой отец, ради Христа Искупителя, удержите вашу руку!
То был голос Адама. Конечно… кого же еще.
Адам не успел облачиться полностью, выйдя во двор на шум, это спасло мне жизнь. Латная перчатка отца грянула о его кирасу, он сбил бы с ног и первенца, но Адама повалить было трудно. Мотылек расцвел, готовый лететь на огонь, крылья его развернулись. Он устоял.
Я потерял сознание.
Странствование в мире теней – дело долгое, пути там мутны и неопределимы. Свет полоснул по глазам, словно взошедшее солнце, я не смог отстраниться. Поэтому закричал. Так мне показалось, но на самом деле то был слабый всхлип. Я был жалок и противен себе самому.
Долгий вздох, также похожий на всхлип, руки, осторожно касающиеся моего лица, легчайший поцелуй – и ливнем слезы, слезы, слезы…
– Очнулся! Святейшая Богоматерь, благословенна ты в женах… Мардж, дай ему пить, я не могу, я больше не могу!
Шорох платья, стук хлопнувшей двери, она бегом устремилась прочь – слез Маргарет Гордон Хепберн не должен видеть даже собственный сын, никто не должен лицезреть ее слабости, слышать звука рыданий. Мне сказали, она не плакала, увидев меня сразу после, там, во дворе.
Другая рука поднесла к губам кислое питье в ложке. Я покорно выпил, закрыл глаза. Свет свечи плыл за пеленой век огненным шаром и несколько мгновений спустя. Рот совсем пересох.
– Спасибо, Мардж.
– Благослови тебя Бог, Джон, ты жив, и это главное. Остальное не стоит благодарности. Не хочешь ли помолиться?
При этих кротких ее словах гнев так ярко полыхнул во мне, что я действительно ощутил себя живым:
– Зачем?!
Богу и впрямь следовало бы прийти ко мне чуть раньше, чем отец возненавидел меня. Когда, в какой момент жизни это случилось? Я не помнил. Однако гнев вернул не только жизнь, но и боль. Казалось, все тело составлено из кровоподтеков и ссадин.
– Меня спас не Бог, а брат.
– Грех так говорить. Господь привел Адама и умягчил сердце отца. Сильно болит?
Странный вопрос. Я попробовал пошевелить рукой, потянулся к лицу, но сестра перехватила мою ладонь, сжала:
– Нет, Джон, нет… – она почему-то смешалась. – Рано. Потом.
Что там такое у меня на лице, что она не хочет, чтобы я знал?
– Адам?
– Он справляется о тебе ежедневно. И Уилл…
– Что?
– Спрашивал, как ты.
– Надо же. Вот странность…
– Джон, какое же счастье, что ты жив!
Тогда мне так не казалось. Скорей уж я был убежден, что нет. Я не знал, чего мне ждать снаружи стен моей клети теперь, когда так нелепо остался жив. Адам зашел незадолго до вечерни, прослышав, что я пришел в себя. Сел возле, протянул руку – и я прильнул к ней чистой от раны половиной лица. И мы молчали.
– Мне жаль… – сказал он наконец.
– Мне тоже. Того, что я остался жив.
Брат посмотрел на меня так, словно я богохульствовал:
– Никогда и не думай об этом. Все в руках Божьих, Джон, и ты нужен Ему живым. Мне жаль, что я подчинился отцу и ушел тогда, что вернулся так поздно. Мне жаль, что матери пришлось пережить это…
Я не видел, понятное дело, я лежал в жару от побоев и от нервной горячки в комнатке моей кормилицы в Восточной башне, но, говорят, гнев моей матери, проходящей по залам Хейлса, выжигал все живое на своем пути. Говорят, крик ее восходил над башней Горлэя, подобно вою семейной банши Гордонов, качался и падал в слух, словно ястреб на жаворонка. Она переносила пренебрежение и насмешки, которым отец подвергал меня, и легкие побои тоже, ибо считала их должными для воспитания настоящего мужчины, но убить меня она бы не позволила ему ни за что. Убить меня означало покуситься на ее единственное и священное библейское право – право женщины даровать жизнь, плодиться, размножаться, населять край Господень. Пожалуй, тогда во мне последний раз – или первый, если считать во взрослой жизни – шевельнулось теплое чувство к матери. Взрослым я уже ощущал ее не как родившую меня женщину, а как равноправного союзника. Интересно, что потом, уже после смерти отца, после Флоддена, среди всей этой своры Хепбернов и она смотрела на меня так же.