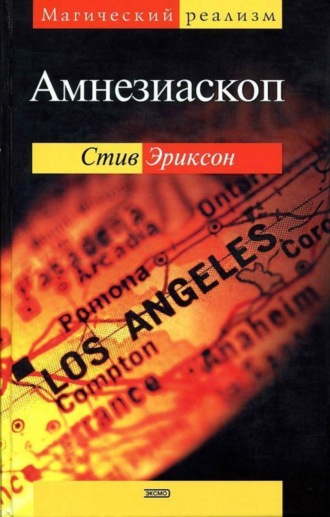
Полная версия
Амнезиаскоп
«Кабального совета» нет, потому что всем нам, тем, кто предположительно в него входит, за исключением Шейла, настолько наплевать, что нам лень даже отпираться, что «кабальный совет» существует, не говоря уж о том, чтобы в нем участвовать. Доктор Билли О'Форте – самый популярный персонаж в редакции, может быть, даже единственный человек в редакции, которого все любят. Как-то вечером, когда он был пьян и трезвого ума у него хватало лишь на то, чтобы надеяться, что я слишком пьян, чтобы вспомнить что-то на следующий день, он признался, что у него действительно докторская степень, если можно себе представить такой позор; с еще большей досадой он объявил, что докторскую писал на тему «Современная мысль в американской литературе». Он заставил меня поклясться, что я сохраню его тайну, и я заверил его, что, конечно же, никому не расскажу. Однако я не обещал не называть его в открытую «доктором», и теперь все зовут его доктором. Кроме работы в газете, доктор Билли пытается найти спонсоров для документального фильма, который он снимает, о случаях гиперсексуальности в Гватемале; этот проект является продолжением документального фильма о гиперсексуальности в Копенгагене, который, в свою очередь, послужил продолжением его магнум-опуса, документального фильма о случаях гиперсексуальности в Бомбее. Несколько лет назад какой-то таинственный миллионер из Сан-Франциско предоставил ему грант на условиях, что он будет год путешествовать вокруг света со своей женой Джейн и снимать документальный фильм о повсеместных гиперсексуалах. Вскоре после того, как деньги были получены, миллионер умер, и доктор Билли как-то забыл о съемках фильма и просто объехал весь свет. В Рио-де-Жанейро было прекрасно, как я слышал. Газета ухватилась за такой причудливый поворот событий и назначила доктора Билли своим «интернациональным» корреспондентом, пока, устав от утомительных остановок на своем пути, вроде Бангкока и Барселоны, он не вернулся в Америку, изведенный скукой, и газета тут же переименовала его в «национального» корреспондента. Теперь он заглядывает в редакцию время от времени, чтобы поныть о том, как это обременительно – путешествовать по свету на деньги мертвых миллионеров. Доктор Билли ростом примерно пять с половиной футов, что стоит отметить только потому, что каждый, кто читал его статьи, думает, что он ростом шесть с половиной футов. Его излюбленная выходка – рассказывать всем, как плохо он пишет и какую тухлятину только что написал, и каждый раз я ведусь на эти россказни – все-таки для писательских ушей нет новости приятней, чем что кто-то другой написал плохо, – пока не прочитываю его статью, и тогда мне хочется взять его за руку и запихать его пальцы в точилку для карандашей. Почему-то именно у такого ужасного, по его словам, журналиста, как он, все остальные газетные авторы регулярно воруют самые остроумные строчки и наиболее вдумчивые наблюдения, как это делал много раз и я сам.
Еще есть Вентура. Вентура основал газету, когда впервые приехал в Лос-Анджелес из Техаса пятнадцать лет назад. Он пишет в ней колонку каждую неделю с самого первого дня и таким образом стал одним из самых знаменитых писателей Лос-Анджелеса; за эти годы он отказался как минимум от трех серьезных предложений редакторской должности. В свободное время он написал четыре или пять книг и три или четыре киносценария, а когда он чувствует, что недостаточно продуктивен, добавляет к этому том-другой поэзии. Он – самоучка от начала и до конца, и сведения у него в голове, включающие в себя все от геологии до китайской экономики, до романов Уиллы Кэтер[1] и Д. Г. Лоуренса, слишком обширны, чтобы проводить с ним много времени; я давно перестал верить в возможность того, что когда-либо буду знать или прочту столько же, сколько и он. Он провидец и чудак, он – звезда фильма о своей собственной жизни, в котором сочиняет все диалоги и назначает себе лучшие реплики. Он ездит на рвотно-зеленом «шевроле» с пробегом в полмиллиона миль, который считает прекрасной машиной и постоянно ремонтирует и реставрирует; его симбиоз с этой рухлядью зародился примерно тогда, когда он пересек границу Лос-Анджелеса, и с тех пор становится все запутанней. Он думает, что фильм, в котором он живет, – вестерн, а машина – его верный скакун.
– Голоса советуют мне не ставить сегодня машину в гараж, – произносит он нараспев после сейсмического толчка, который сотрясает «Хэмблин» вплоть до балок в подземном гараже. Он не волнуется о том, что здание может рухнуть на него, он волнуется о том, что оно может рухнуть на машину. «Голоса» вечно говорят с Вентурой, рассказывая ему, что имеет место быть в дальних углах Вселенной.
– Голоса, – говорю я, – советуют тебе не волноваться столько о своей машине.
– Мне они так не говорят.
– Зато мне они говорят именно так.
– Мои голоса говорят с тобой о моей машине?
– Да.
– Ничего они тебе не говорят.
– Говорят. Они попросили меня передать тебе, что уже задолбались слушать про твою машину.
– Ничего подобного они не говорят. Может, они имеют в виду твою машину.
– Мои голоса не говорят со мной про машину. У моих голосов есть поважнее предметы для обсуждения, чем моя машина.
– Твои голоса вовсе с тобой не говорят, – парирует Вентура. – Ты не общался со своими голосами с тех пор, как тебя приучили ходить на горшок.
Вентура – фанат голосов. Когда он основал газету, то очутился в чернильной плаценте ее рождения, как человек и как писатель; с тех пор эти две ипостаси плотно переплелись. Он любит считать себя некой местной живой легендой, что, конечно же, полностью объясняется манией величия, – и все же, возможно, не полностью, потому что на каком-то уровне, хотя я никогда не скажу ему этого и, вероятно, убью любого, кто ему это скажет, он на самом деле немного легенда. Он один из немногих людей, чье имя можно сделать нарицательным и придумать слово «Вентурескный» – хотя мне всегда казалось, что «Вентурийский» будет позвонче, – что было бы похоже... ну, я думал сказать – на легенду, но это было бы положительно Вентурескно. «Видишь?» – спрашивает он, указывая на что-то, прикрепленное к холодильнику.
Это статья, вырезанная со страницы двадцать шесть из утренней газеты, пара сотен слов о каком-то вулкане, который, согласно некоему научному исследованию, извергся на острове Бора-Бора и сместил береговую линию на три тридцать вторых миллиметра. Но ученые не открывают нам, объясняет Вентура, и его рот начинает изгибаться в своей обычной безумной ухмылке, что подъем прилива на Бора-Бора на три тридцать вторых миллиметра полностью переиначивает все сейсмические токи в Тихоокеанском бассейне, и... К тому времени, как Вентура завершает объяснения, земля разверзается, и всё кубарем летит в огненные расщелины и заглатывается кратерами размером с Лонг-Бич – люди, звери, здания, негодяи-кинопродюсеры, обдурившие его на две с половиной тысячи долларов много лет назад, – всё, кроме его проклятой машины, которая является космическим тотемом и нашим единственным шансом на спасение. В этом толковании планетных метаморфоз Вентурескно не то, что теоретический апокалипсис Вентуры неизбежен, а то, с каким абсолютным ликованием он об этом повествует; в сердце своем Вентура верит, что человечество слишком надменно и загублено, чтобы безнаказанно продолжать свое существование. Он ждет не дождется, когда мы все будем поставлены на место, где бы оно ни было. В конце концов, сколько бы лет ни прошло и куда бы они нас ни вывели, моя дружба с Вентурой останется на своем месте, там, где мы были с самого начала. Когда я был в этом городе никем, писателем, едва фиксирующимся чужим сознанием, Вентура, самый известный критик города, написал рецензию на мою книгу. Это была не только одна из самых умных рецензий, когда-либо написанных о моих книгах, но и самая щедрая, плюс в то время он не мог извлечь и маломальской выгоды из того, что поддержал потенциального соперника. Но этого требовал его кодекс интеллектуальной честности. Он предлагает мне свою щедрость снова и снова, опять и опять, и я не знаю никого – если проникнуть за фасад мистической жесткости, который он возводит, – у кого сердце распахнуто шире, чем у Вентуры, никого – когда он приперт к стенке и выхода нет, – кто рассмеется звонче, когда из его собственного притворства выпустят воздух. Чудак и провидец, он пишет статьи, которые могут быть на две трети нелепицей, а на одну треть состоять из идей, о которых еще никто не задумывался и не говорил такими словами. Иначе говоря, состоящими из абсолютно оригинальных мыслей. У кого еще в наше время бывает одна абсолютно оригинальная мысль из трех? У кого еще бывает хоть одна из двадцати трех? Та же страсть, что околдовывает тех, кто любит Вентуру, чертовски бесит других, особенно самопомазанных блюстителей нынешнего духа времени; это страсть, которая никогда не сдается и не принимает капитуляции от других. Страсть Вентуры проводит черту в песках нашего времени. Люди становятся по одну или другую ее сторону, но никто не может стоять на черте.
В последний раз карьера романиста сверкнула передо мной в Нью-Йорке, прежде чем совсем исчезнуть в темноте. Меня радушно пригласила одна нью-йоркская художественная группа провести чтение в Сентрал-Парке вместе еще с одним автором; все расходы были оплачены, включая гостиничный номер и железнодорожный билет на восток. На первом отрезке пути, от Лос-Анджелеса через Аризону и Нью-Мексико, к северу через Колорадо, всю дорогу до Сент-Луиса, у меня было отдельное купе, причем довольно нехилое купе, куда мне приносили завтрак, обед и ужин и расстилали постель на ночь. «Эй, да я ведь не просто автор, а большая шишка!» – думал я в удивлении, заказывая водку и величественно махая рукой из окна изумленным прохожим, как будто я президент. Однако, но мере того как мы продвигались на восток, условия ухудшались. Где-то за Сент-Луисом меня пересадили на другой поезд, и, когда мы покинули Чикаго и начали пересекать Иллинойс, жилище мое становилось все менее впечатляющим, пока одним утром я не проснулся в Пенсильвании и не увидел, что нахожусь в чулане, а мои соседи – швабры и огнетушитель. Никто не приносил мне завтрак, и никто не расстилал мне постель. «Я, твою мать, на кого похож, – рявкнул на меня проводник, когда я заказал водки, – на проводника, что ли?»
Когда я прибыл в Нью-Йорк и вдохнул его воздух, одно это, казалось, подтверждало, что моя траектория начала решительно гнуться книзу. Как и в случае с Лос-Анджелесом, если ты сам – не из Нью-Йорка, то каждый раз, когда попадаешь туда, он растет, как памятник всем твоим достижениям, или, что точнее, всем твоим фиаско – урбанологией твоего личного успеха или провала. По дороге в Сентрал-Парк случилось так, что я перехватил такси у женщины, которая уже долго его ждала; пока я сидел на заднем сиденье и переживал из-за этого, такси едва избежало лобового столкновения с другим такси. Представляя себе пылающую, скрежещущую металлом смерть, я думал не о том, что мне нужно было уступить машину женщине, а о том, что она никогда не узнает, что если бы какой-то подонок не урвал у нее машину, она была бы мертва. Я не переставая думал об этом всю дорогу к Сентрал-Парку, гадая, каким образом, если бы я погиб в аварии, я бы дал этой женщине знать, что за одолжение судьба сделала ей в последнюю минуту; я воображал, как вцепляюсь в руку врача «скорой помощи» и хриплю, описывая женщину, и заставляю его поклясться, что он найдет ее и все ей объяснит. И потом я начал думать о всех смертельных несчастных случаях, которые я неведомо для себя пропустил в своей жизни, и как настоящее было всего лишь кульминацией всех неизвестных мне почти-что-попаданий, являвшихся частью неизвестного прошлого, и...
Другими словами, я прилично себя завел к тому времени, как добрался до парка. Второй писатель, с которым свела меня группа, был фантастом феноменальной известности. Он практически изобрел целую ветвь научной фантастики в одиночку, и его всегда цитировали в важных журналах. На самом деле он очень милый человек; время от времени, к разным случаям, он говорил добрые слова о моих книгах. Мы как-то раз встречались в Лос-Анджелесе и сидели в «Электробутоне», любуясь прекрасной стриптизершей-евразийкой по имени Кийо, в то же время пытаясь вести один из тех дружелюбных литературных tet-a-tetes, которые авторы, стремящиеся к званию большой шишки, вечно воображают себе с другими авторами: я – завидуя его феноменальной репутации и поразительному успеху и религиозно преданным читателям по всему миру, а он – завидуя... ну, не знаю, чему у меня он мог завидовать, но, я думаю, он был удручен тем, что безнадежно погряз в жанре научной фантастики, и если мне и было чем утешиться, это тем, что я не безнадежно погряз в жанре научной фантастики. Короче, я полностью ожидал, что он будет ключевой фигурой этого события, чем он и был, хотя, думаю, я мог бы обойтись и без настойчивого подчеркивания этого факта статьей в местной газете, где после нескольких сотен слов о нем мое собственное присутствие было анонсировано максимально поверхностным образом. Я также предполагал, что буду читать первым, на разогреве. Но за сценой пиар-менеджер фантаста доказывал директору программ, что его подопечный должен читать первым, «потому что все хотят уйти пораньше». Поскольку я был в двух футах от него, когда он это сказал, мне показалось очевидным, что он просто не сообразил, кто я; я подумал, что нужно попытаться дать знать о своем присутствии, прочищая горло, шаркая, жадно зевая, несносно напевая под нос, передвигая мебель, гремя посудой, сморкаясь, размахивая своей книгой, но все без толку.
В итоге все же вышло так, что я читал первым. Я зачитывал свои произведения и раньше, но никогда – так: на улице, в темноте, на высоких подмостках, где свет бил мне в глаза и я читал в черноту, без понятия, сколько человек сидят передо мной – двое или две тысячи. Время от времени из черноты за пределами сцены, но будто бы очень, очень отдаленно, что-то раздавалось в ответ – мелкие смешки, например, в ответ на фразу, которая была – или не была – задумана мной как смешная. Но кроме этого, была только тишина, как мне хотелось верить – пристального внимания, хотя это с той же легкостью могла быть тишина пустого парка. И вдруг в критический момент повествования, ровно на середине, весь свет взял и потух.
Я стоял в темноте и ждал, пока свет вновь загорится. Тикали минуты, все молча сидели в темноте и терпеливо ждали. Наконец я смог сказать только: «Я бы продолжил, но мне ничего не видно».
Ну, наверно, это было мне уроком за то, что я вообще когда-то считал писание романов «карьерой». Писать рецензии на фильмы, с другой стороны, – вот это карьера, и когда я начал работать в газете, я, кажется, писал почти со страстью. По какой-то причине я стал специализироваться на защите фильмов, которым истеблишмент критиков уже вынес свой пагубный вердикт, фильмов, в которых какой-нибудь несчастный обманывающийся режиссер пытался добиться чего-то, что, как могли бы сразу сказать ему эксперты по современной культуре, было ему не по зубам. В действительности я очень быстро потерял интерес к любым фильмам, которые не делали из себя полного посмешища. Какое-то время это мне что-то давало, эта сумасбродная защита наглой некомпетентности; но уже прошло достаточно лет, чтобы культура отбелила посмешища с подлинным значением, то есть те, которые действительно кого-то тревожили, и Шейл недавно намекнул мне, что я сошел с правильного пути. В последнее время у меня едва получается писать. Я взял за привычку просто пялиться ночью из окна квартиры, наблюдая, как вертолеты проплывают сквозь струи дыма, слушая «Теперь путешественницу» и барабаны Марракеша на Третьей станции и гадая, какая провальная третья карьера ожидает меня после провала второй...
Сначала это было просто. Критику следовало знать всего одно правило: все, что не недооценено, – переоценено. В это уравнение можно было подставить любой фильм, режиссера или актера и застолбить соответствующую позицию, принимая во внимание, конечно, что нечто может быть недооцененным вплоть до того момента, когда становится переоцененным, каковым остается до неизбежной встречной реакции, и тогда вновь становится недооцененным. Точки, в которой обожание или презрение культуры тонко сбалансированы, подвешены в совершенной пропорциональности, не существует; несколько лет назад я сам был недооценен и переоценен в одно и то же время. За пределами этой простейшей алгебры, признаюсь, был мимолетный период, когда – тайно, наивно – я лелеял надежду на что-то большее. Я надеялся, что в городе без политики, без личности, без смысла и без логики появится новый кинематограф, который я называл Кинематографом Истерии. Я был убежден, что этот тайный кинематограф формировался на протяжении всего двадцатого века, хотя никто этого не замечал, поскольку по своей природе он был рассеян и энтропичен и открывался лишь на аванпостах, представленных такими фильмами, как «В укромном месте», «Шанхайский жест», «Невеста Франкенштейна», «Место под солнцем», «Гильда», «Без ума от оружия», «Головокружение», «Одноглазые валеты», «Великолепие в траве», «Источник», «Маньчжурский кандидат» и «Пиноккио». Это фильмы, в которых совершенно нет смысла, – и которые мы понимаем до конца. Это фильмы, которые останутся, когда Америка совершенно лопнет по швам, кино, которое оторвется от своих якорей и шатко двинется по экрану Америки, который ничего не помнит. В эпоху, простроченную неуверенностью технического прогресса, финансовых переворотов и чумой смешанных телесных соков, когда мы паникуем настолько, что пускаем корни во все притворно узнаваемое – будь то работа, подруга, усердно исписанный календарь, телефонный справочник с обновленными междугородными кодами, – скрытое течение эпохи вытягивает нас к иррациональной истине, которую удовлетворяет лишь иррациональный кинематограф. В итоге такое кино пребывает где-то на дне души или же на самом верху – последний пронзительный выкрик истины за пределами слов и мысли, затрагивающий вопросы одержимости и искупления, находящиеся за пределами рациональных расчетов технологии или рациональной цены финансов или даже рационального растления чумы.
Только позднее я осознал, что такого кинематографа не будет по той же причине, по которой я изначально стал кинокритиком. С тем, как время и страсть истощаются до размера булавочной головки, публика начала понимать, что ей не нужно более подвергать себя подлинному переживанию искусства, что вместо этого она может гораздо быстрей и эффективней определять и синтезировать искусство, которое уже прошло обработку критической интерпретацией. Еще лучше, еще эффективней – когда второй критик откликается на замечания первого и искусство отстраняется вдвое; еще лучше, когда третий критик отвечает второму, оно отстраняется втрое. Когда мне стало ясно, что обозреватели, комментаторы и профессиональные наблюдатели всех мастей – это истинные волхвы новой эпохи, я также увидел, что с каждым новым экспоненциальным завихрением текущего культурного логарифма художник приближается к тому идеальному утопическому моменту, когда он или она исчезнет совсем. Ну, я не дурак. Как романист я чувствовал, что становлюсь все более бестелесным с каждым проходящим моментом.
Вот только... вот только через какое-то время скука, нагоняемая обозрением фильмов, которые невозможно было ни недооценить, ни переоценить, которые вообще не стоило оценивать, начала сводить меня с ума. И я не мог выбить его из головы, мой Кинематограф Истерии, когда на прошлой неделе засел писать рецензию на считавшийся утерянным, но восстановленный и вновь выходящий в прокат истерический немой шедевр «Смерть Марата» легендарного режиссера Адольфа Сарра, который снял этот фильм, когда ему было двадцать пять, и больше не снял ничего. Это была одна из моих лучших работ. На самом деле это, возможно, была лучшая рецензия, которую я когда-либо написал. Гениально анализируя структуру и монтаж, красноречиво иллюстрируя великолепную игру ведущей актрисы, я захватывающе теоретизировал о том, как вся история кино могла бы измениться, будь «Смерть Марата» по достоинству оценена, когда впервые вышла на экран; я даже процитировал интервью с Д. У. Гриффитом, в котором он признавал влияние «Смерти Марата» на его собственные работы. Словом, просмотр этого фильма был одним из самых светлых моментов моей карьеры кинокритика, уверял я читателей («незабываемые впечатления»), и в конце статьи я навязчиво вопрошал о том, что сталось с Сарром, который, без сомнения, был мертв. Я лишь надеюсь, заключал я, что он дожил до того дня, когда его видение было отмщено. При перечитывании это послесловие чуть не заставило меня прослезиться.
Единственное, что меня заботило в этой рецензии, это то, что фильма «Смерть Марата» и режиссера по имени Адольф Сарр не существовало. Я их выдумал. Занимая здесь и там у французской революции, я выдумал сюжет фильма, хотя только местами и кусочками, конечно же, поскольку критик никогда не хочет выдать слишком многого; я выдумал актеров, выдумал декорации, выдумал ракурсы съемки. Я выдумал синемаскопические эффекты. Единственная правда в моей рецензии заключалась в том, что режиссер по имени Д. У. Гриффит действительно существовал, хотя интервью, о котором там говорилось, я тоже выдумал. К тому времени, как я вернулся домой из редакции после сдачи статьи, я уже начинал раздумывать, что скажу, когда мне предъявят обвинение в мошенничестве, что случится в скором времени, если не сразу же. Мне оставалось надеяться, что редактировать статью назначат доктора Билли О'Форте; до него сразу дойдет смысл хохмы, которая, может быть, доставит ему несколько веселых минут, а потом у нас будет время вдвоем подумать о том, что делать с моей шуткой. Мы могли просто сказать Шейлу, что я написал рецензию на что-то еще и безнадежно запорол задание, и вообще похерить всю статью. Шейлу это не понравится, но в целом отсутствие рецензии, наверно, было предпочтительней рецензии на фильм, которого на самом деле не существовало. Однако быстрый звонок доктору Билли выявил, что не он редактировал статью, а сам Шейл. Шейл вряд ли будет склонен смеяться. Будет как в тот раз, когда я написал о стрип-баре как духовном центре Лос-Анджелеса, и статью бросили мне в лицо, с той разницей, что стрип-бар на самом деле существовал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Уилла Кэтер (вар.: Кэсер; 1876-1947) – американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии за роман о Первой мировой войне «Один из наших» (1922), автор романов «О пионеры!» (1913), «Смерть приходит за архиепископом» (1927), «Люси Гейхарт» (1935) и др.


