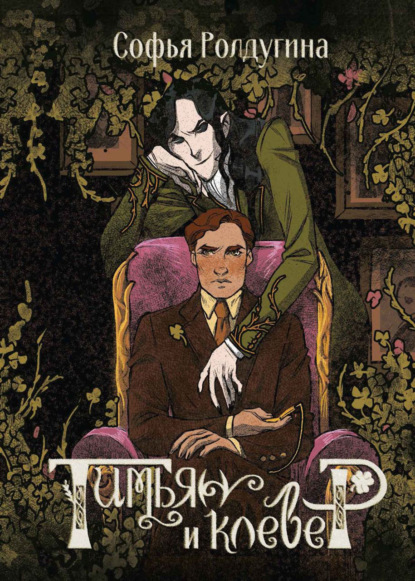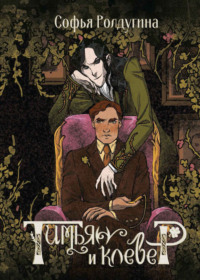Полная версия
Лисы графства Рэндалл
– Было б с чего рыдать, – хмыкнула Мелош. – Когда возвращается-то?
– Да никогда, – в тон ей ответила Анаис. – Он… В общем, Танет встретил хорошую женщину. Точнее, его к ней определили, поправляться. А они поженились. Ребёнок осенью будет. Точнее, наверное, уже родился. Слышишь, Дени? Ты теперь – дядя! Как думаешь, у тебя племянница или племянник?
Мелош уронила иглу и часто заморгала, бормоча что-то себе под нос. Анаис различила только: «не зря пожила» и «дождалась». Последнее «…теперь не жалко» она предпочла не услышать.
Праздновать увеличение семейства Моро было особенно и нечем: крепкие красные яблоки, немного сыра и хлеб с толстой, хрустящей коркой, дневной заработок Дени. Аккурат посередине ужина заглянул Хайм – не иначе, хорошие новости почуял – и добавил полбутылки вина. Анаис досидела в душной кухне до полуночи, а потом выскочила в сад, даже шаль на плечи не накинув; в правой руке – стакан с вином, почти нетронутый, в левой – кусок хлеба. Покружила по саду, забрела в дальний угол и привалилась спиной к стволу старой яблони.
– Пастырь, пастырь, – прошептала Анаис. Хайма, который смотрел на неё весь вечер, было ужасно жалко. И не прогонишь его ведь, не скажешь, что сердце давно отдано пожарам – не поверит, не поймёт. – Приходи, а? Без своих стад, без огней и дымов. Я тебя вином угощу.
Из зябкой осенней ночи налетел ветер, встрепал волосы – и следом, через мучительно долгую минуту, затылок накрыла тёплая ладонь.
– Вино, говоришь, маленькая госпожа торговка? – усмехнулся пастырь, усаживая Анаис к себе на колени, укрывая полой пальто. – Вылей ты эту кислятину. У меня кое-что получше есть.
– И что, поделишься? – недоверчиво откликнулась она. А глупое сердце в груди ликовало: услышал, пришёл! Чего больше-то надо, дурочка?
– С кем, если не с тобой, – ответил пастырь серьёзно.
И – забрал у неё злополучный стакан, опрокинул прямо в жухлую траву.
Анаис стало так легко, как давно уже не было; она знала, что скажет Хайму, не знала только, простит ли он её. Хлеб пришлось разломить надвое – заедать сладкие, невозможно пьяные ягоды. Пастырь и принёс-то их всего одну горсть, а они не кончались и не кончались.
– Слушай… Тебе до столицы далеко? – спросила Анаис сонно, пригревшись под пальто, так похожим на сыпучий, жирный пепел.
– Шаг туда, шаг обратно, – дыхание раздвинуло волосы у неё на затылке.
– Моего брата зовут Танет Моро. Он на меня похож, только высоченный. Женился недавно. Написал тут про ребёнка… Мне б только узнать, родился или нет, здоров ли…
– Спи, – коснулись лба горячие губы. – Всё о других беспокоишься. Про себя подумай.
Анаис в полудрёме ткнула его кулаком в бок – и провалилась в забытьё, безмятежное, как в детстве, когда волшебство было взаправду. Под утро ей пригрезилось: «Девочка, назвали Мелош».
Сон оказался пророческим.
После объяснения Хайм перестал приходить. Сначала – совсем, потом начал изредка заглядывать, но только днём, когда Анаис была в госпитале.
– Зовёт меня: «Эй, мать, здорова?». Ну какая я ему мать? – ворчала Мелош, и погнутая игла ныряла в рыхлую чёрную ткань. – Жалко парня.
– А мне сестру жалко, – фыркал Дени. И – раз! – опускал взгляд, скрывая потаённые мысли, точь-в-точь, как отец, когда его мать бранила по мелочи.
Иногда Анаис казалось, что брат хотел что-то сказать, но не решался; иногда она была уверена, что он знал наверняка – про пастыря, про яблоко, про пьяные ягоды, про случайные встречи за околицей. Видел, как сестра голой рукой подхватывает с пола выстреливший уголёк – и кидает обратно в печку. И – очень редко – она думала, что сумеет рассказать правду.
А потом стало не до того.
Война оказалась похожа на океан. За отливом следовал прилив, и чем дальше откатывались волны железные, горючие, тем яростней захлёстывали потом спокойные земли. Первым знаком стали погорельцы – снова потянулись через город вереницы усталых, голодных, выжженных ужасом людей. Больше, чем во все прежние годы; мест в больнице не было, солдаты заняли все койки. Ночью край неба полыхал, но не зарницами.
– Идите на север, – бросил как-то пастырь; он сидел на пороге, подбрасывая яблоко на ладони, и на Анаис не смотрел. Закат горел ореолом вокруг его головы, но не ярче багряных бликов в зрачках. – Здесь совсем скверно будет. А туда ещё нескоро беда доберётся, на человечий век хватит.
– Да как же мы, – растерялась Анаис. – Бабка Мелош ходит плохо, она не дойдёт. Не бросать же её…
– Как знаешь, – сухо ответил пастырь, положил яблоко на тёплое, нагретое за день дерево – и шагнул с порога прямо в кипящее, дымное, пламенное. Анаис моргнула, и жуткое видение исчезло.
Страх остался.
Первую бомбу она почуяла ещё до её появления – всей кожей, шестым чувством, зудом в костях. Нечто расчертило небо, раскроило надвое, выпуская из-за звёздного полотнища неба огненную тьму…
Не сейчас. Пока ещё нет.
– Нет! – Анаис рывком села, скидывая одеяло. Брат на полу зашевелился, протирая глаза. – Нет, нет, нет, только не к нам, пожалуйста, нет!
Выскочила на улицу – сапоги в руках, рубашка Танета падает с плеча, под ногами – ломкая от мороза трава. В спину неслось хриплое спросонья: «Эй, ты куда?», и обернуться бы, объяснить, но дорога сама бросалась под ноги, несла, как волна – доску от разбившегося корабля.
– Нет! – выдохнула Анаис, вскидывая руки к небу словно пытаясь заслонить узкими мозолистыми ладонями весь город. Дурацкие сапоги шлёпнулись о камень. – Не сегодня!
Закрыла луну трескучая машина, крылья – как ножи, в ореоле железистого дымного смрада. Металл, начинённый смертью, перевалился через край, полетел вниз…
Анаис не двинулась с места.
– Пожалуйста, не сегодня! – яростно крикнула она в сторону, зная, что тот, кто всегда рядом, обязательно услышит.
И правда, услышал.
Бомба вонзилась в брусчатку, оставив котлован; осколки брызнули в стороны, но и только – ни взрыва, ни огня. Вторая камнем упала на крышу больницы, пробивая перекрытия; третья – на ратушу. Затем машинный треск затих вдали, и чудовищная тень сокрылась меж других теней в ночи.
Пастырь обнял Анаис со спины, склонился, прижимаясь щекой к щеке.
– Уговор, маленькая моя госпожа, седая госпожа. В другой раз ты позовёшь меня со всеми моими стадами.
– Я не седая, – прошептала Анаис; губы онемели, обожжённые морозным воздухом; глаза были сухими; растрепавшаяся коса змеёй спускалась на грудь.
– Ты будешь, – произнёс пастырь горько и нежно, точно хотел бы откупиться от собственных слов, от знания – но не мог. – И тогда я приду за тобой. Только позови.
И – отстранился. Она почувствовала движение, обернулась, пытаясь удержать, но поймала только дым – невесомый, почти прозрачный, словно от тонкой щепки ароматного дерева. Запах запутался в волосах – шёлковый платок для призрака, бесполезный дар.
«Я не должна была просить… А могла ли промолчать?»
Анаис кое-как влезла в сапоги и вернулась домой ни жива ни мертва. Думала, что теперь не заснёт никогда, но провалилась в сон почти сразу.
И поначалу будто бы ничего не изменилось. Линия фронта пронзила город, как спица – зрелое яблоко, но никто не заметил. Взрывы, что звучали к северу, сместились вдруг южнее, а раненых в госпитале стало меньше. Исчезли мундиры, которые нет-нет, да и мелькали на улицах… Но всё так же работала пекарня Мартена, и говорливый южанин Хайм успевал бывать в десяти местах одновременно, одному сбывая бутылку вина, другому – старые сапоги, а третьему – яркие липкие леденцы.
А потом пришли чужие войска.
Вроде и различий со своими было немного: форма побледнее, потемнее, язык похож; и люди такие же – кто злой, кто усталый, кто весёлый без меры. Эти, как и свои, не спрашивали разрешения, подселяясь в хорошие дома, и одни гости еду требовали, а другие – делились. Тех раненых, кого свои не успели вывезти, чужие не трогали; простых людей никто не запугивал.
– Мы с мирными не воюем, нет, – сказал высокий белоглазый офицер, похлопывая по плечу старика-врача.
– Почти как наши, – вторила ему худая и краснощёкая медицинская сестра, поглядывая вниз, на каменный двор, где разместился громоздкий автомобиль, из которого выгружали тяжелораненого. – Слушай, а с чего началось-то? Кто кого обидел? Мы их – или они нас?
И только старуха Мелош одним словом смогла выразить то, что довлело над городом:
– Душно.
«И хрупко», – добавила про себя Анаис. Она и впрямь чувствовала, что воздуха не хватает – и одновременно боялась подспудно сделать неловкое движение, словно очутилась в наглухо запертой лавке с тысячью стеклянных статуэток. Повернёшься неаккуратно, заденешь рукавом – и брызнут осколки в стороны. И каждая такая фигурка – чья-то жизнь.
Страх, почти неощутимый поначалу, стал копиться по низинам и подвалам, как ядовитый болотный газ. И, прежде чем самые чуткие успели это понять, весь город оказался отравлен.
Утро выдалось не по-осеннему морозным; к полудню полетели по ветру крупные снежинки-пушинки, заволакивая обочины. Анаис, улучив минуту, выбралась в больничную кухню – погреть руки о чашку с похлёбкой, когда во внутреннем дворе, гулком, как колодец, разгорелась перебранка. Один голос, мужской, сбивчиво умолял, другой, старческий и нервный, требовал немедля убраться прочь.
Захрясшая рама поддалась не сразу – куда там слабым девичьим рукам. Да и потом через щель разглядеть можно было только небольшой кусок двора: облетевшую рябину, стену второго корпуса… и яркую-яркую цирковую повозку.
– Вы понимаете, она умирает!
– Вот и пусть умирает в другом месте! Здесь военный госпиталь, военный!
Залпом допив остывшую похлебку, Анаис захлопнула окно и выскочила в коридор.
– Эй, Моро, а кружку помыть? – вяло окрикнула её медицинская сестра.
– Потом!
С главным врачом она столкнулась в коридоре, у выхода. Успела спросить коротко, что случилось, и получила в ответ брезгливое: «Бродяги какие-то… Коек нет, что их, к солдатам подкладывать?».
В груди точно пылающая головня заворочалась.
Глаза у врача, у хорошего, честного человека, были перепуганные.
Стиснув зубы, Анаис сбежала по крыльцу, завернула за угол – и едва успела догнать пёструю цирковую повозку до того, как та выехала на большую дорогу.
– Стойте! – закричала. – Я врач, я… аптекарь. Что случилось?
Повозка медленно остановилась. Через край перевесился худощавый мужчина средних лет с навощёнными щегольскими усиками. В петлице потёртого смокинга вместо цветка торчал монокль.
– Вы правда поможете?
– Не знаю, – честно призналась Анаис, запрыгивая на подножку. – Что случилось?
– Жена… В бреду, жар… – забормотал мужчина; он смотрел только на собственные руки, точно боялся поверить. – Сын умер, теперь она… Все наши в поле остались, я думал, что тут сумею…
Отбросив полог, Анаис пробралась в повозку. Внутри, у стенки, действительно лежала женщина, бледная, с запавшими щеками. Одеяло её повлажнело; кислый запах болезни щекотал горло. Ни пятен на коже, ни гнойников не было, но горло отекло.
– Давно она так?
– Третий день…
Хлопнуло окно в больнице – высоко, на третьем этаже. Анаис прикусила кончик языка.
«Почему врач их не пустил? Побоялся эпидемии? Не похоже».
– Мне надо сейчас вернуться на работу, – наконец сказала она. – А вы езжайте вниз по этой улице до хибары с проваленной крышей, оттуда налево. Упрётесь в сад, где яблони, там в глубине большой дом, с флюгером-змейкой. Там будет старая женщина, её зовут Мелош. Скажите, что это я вас прислала, она поможет… Скажите, что вы от Анаис. А я приду к вечеру. И не бойтесь, – улыбнулась. – У нас есть лекарства.
– Спасибо, – ответил мужчина так тихо и проникновенно, что сердце у неё ткнулось в рёбра. – Я Франк, Франк Макди.
– Потом познакомимся, – махнула рукой Анаис, спрыгивая с повозки. И остановилась на секунду, прежде чем бежать обратно в больницу: – Только никому не говорите, что я обещала вам лекарства.
Три дня пролетели как один – ни покоя, ни сна. С утра и до вечера – перевязки, промывание ран, обработка ожогов, холодные коридоры и руки, почти бесчувственные от едких средств и ледяной воды. С вечера до утра – бдение в изголовье, отцовские золотые весы для лекарств, тёплое питьё, выстуженные мокрые полотенца. Даже старые лекарства, сделанные по проверенным семейным рецептам, работали лучше тех, что были в госпитале, но не так уж много их осталось.
«Ты ушёл, – думала Анаис, – но то, что ты сотворил, до сих пор спасает жизни».
На четвёртый день госпожа Макди наконец пришла в себя и немного поела. Франк уснул прямо у её постели – не иначе, от облегчения. Бабка Мелош обещала присмотреть за ними обоими.
– Ничего, – проворчала она, запирая дверь. – Если уж в разум вошла и голодная, как волк – значит, на поправку идёт. Видали мы таких. Ну, раз беда миновала, теперь и мы отдохнём.
– Отпрошусь и вернусь сегодня пораньше, – улыбнулась Анаис, но обещания не сдержала.
Она лишилась чувств прямо на пороге больницы.
– У вас гости, верно, госпожа Моро? – пожевал губу главный врач. Он не поленился спуститься вниз, и теперь нависал над кушеткой воплощением укоризны. – Утомительные, наверное?
– Зато у меня совесть чистая, – вскинула подбородок Анаис. Точнее, попыталась – сознание вновь поплыло в самый неудобный момент.
Врач ругнулся под нос, подхватывая её и аккуратно укладывая вновь на кушетку; у него были хоть и старческие руки, но по-прежнему сильные.
– Вы сейчас поспите час, госпожа Моро, а потом вернётесь домой. И чтобы я вас потом два дня здесь не видел, ясно? – слегка повысил он голос, а потом добавил совсем тихо: – Я не только за себя отвечаю, глупая вы женщина. Легко быть милосердным, когда ты один как перст. И попробуй-ка, когда под твоей рукой пятьдесят человек ходят…
Анаис хотела сказать, что у неё тоже есть те, за кого она отвечает, но осеклась. Господин главный врач избегал смотреть в глаза, и веки у него подрагивали. Сложно не узнать страх, когда он рядом… но что, если это страх не за себя?
– Простите, – выдохнула она, откидываясь на кушетку и смыкая ресницы. – Но я не могу по-другому.
– Отдыхайте, госпожа Моро, – устало ответил старик врач. И, совсем тихо добавил, как если бы это послышалось: – Хорошо, что вы не можете.
Анаис хотела только немного подремать, но очнулась только поздним вечером, когда стемнело. Город был тих; не верилось ни в войну, ни в горе. И, как в другой жизни – семь ли, десять лет назад? – леденцово блестел на лужах тонкий ледок, земля от инея казалась седой. Небо опустилось ниже и побледнело, и даже в сумерках не казалось больше бездонным – не пропасть, а стеклянная крышка.
– Только фейерверков не хватает, – пробормотала Анис, погуще наматывая шаль на шею. Крупные пушистые снежинки летели словно из ниоткуда – вразнобой, по одиночке. Ветер, морозный и сладкий, пробирался под одежду, понукая идти быстрее. – И ярмарки. Как же я соскучилась…
Шаги за спиной она услышала, когда подходила к дому – оставалось только за поворот шмыгнуть и по улице пройти. И, как прежде – ещё не сброшенную бомбу, почувствовала нутром порох и дурную злость.
– Эй, ты! Ты, беленькая, поди сюда!
В первое мгновение Анаис больше всего испугалась не чужого пьяного солдата, а того, что она позовёт на помощь – и что откликнется не человек, а пожар. Грудную клетку изнутри обожгло, снежинки на плечах свернулись каплями.
– Эй, беленькая, отдай платок!
Грубые пальцы рванули шерстяное кружево – старое, ещё материно, памятное, тёплое, дорогое. Воздух застрял в горле. Как, когда чужак успел догнать? Почему ноги не двигались?
«Почему он заметил меня?»
Анаис считала себя сильной, но от тощего, озлобленного человека даже заслониться толком не смогла. И, кажется, в какой-то момент закричала – то ли когда воротник затрещал, то ли когда нога подвернулась. Молотила кулаками наугад, заехала в челюсть лбом – и схлопотала оплеуху. А потом чужак вдруг обмяк – и кулём повалился на землю.
– Ты в порядке?
Она вздрогнула, не сразу узнав голос брата, потом кивнула дёрганно и кое-как поднялась на ноги.
– Да, он только ворот порвал… – начала было и вдруг осеклась.
Дени был без куртки, в одной рубашке – видимо, выскочил на улицу второпях. А в правой руке он сжимал топорик для щепок, маленький, но тяжёлый. Кровь капала на землю, дымная, тёмная, оставляя лунки в серебристой изморози; всё явственней ощущался тяжёлый металлический запах. А на плечах у мёртвого чужака виднелись знаки отличия – незнакомые, но у простых солдат таких не водилось.
Вот тут-то Анаис испугалась по-настоящему.
Где-то хлопнули ставни – не в её доме.
– Кто-то видел, – произнесла она, леденея.
Дени пожал плечами и отёр топорик об одежду умершего: – Да двое смотрели. Непонятно, почему только смотрели, а не вышли на помощь… Эй, Анаис, ты чего?
– Ничего. Слушай, его, наверно, убрать надо…
– А толку? – очень по-взрослому вздохнул Дени – маленький для своих четырнадцати лет, щуплый, но так похожий на отца. – Знаешь, ты иди домой, а я тут разберусь. Не хватало тебя вмешивать. Иди, иди, я скоро тоже подойду, обещаю. Ну?
И Анаис впервые безропотно послушалась младшего брата.
Дени вернулся спустя час. К тому времени о беде знала не только бабка Мелош, но и циркачи. Подвергать их опасности, оставляя в доме убийцы, было совестно, а выставить, ни слова не сказав – невозможно.
– Когда узнают – расстреляют, – невесело подытожил Франк, одной рукой обнимая жену, бледную и сосредоточенную, и дёрнул себя за ус. – Или повесят. Уж на это я нагляделся. Говоришь, вас видели?
– Соседи, – буркнул Дени и отхлебнул травяного чая. Зубы звякнули о край кружки. – Свои. Может, промолчат.
– Не промолчат, – качнул головой Франк. – Люди… Они, когда боятся, совсем другие. А сейчас все боятся.
– Так свои же…
– Да прав он. Бежать надо, – бросила старуха Мелош, как выругалась. Между бровями у неё залегло столько тревожных морщин, словно там почти всё лицо собралось. – Не навсегда. Как они уйдут, так и вернёшься.
– Не навсегда! – присвистнул Дени. – Война же. Может, своих догнать, в армию записаться?
– Да кто тебя такого дурня маленького возьмёт?
– Что, как вешать – взрослый, а как воевать – маленький?
– Хоть бы и так!
Анаис следила за их перепалкой, точно с другого берега реки. На каждом вдохе под рёбрами словно костёр разгорался, сильнее и сильнее.
«Если я только позову…»
– Госпожа аптекарь?
Она вздрогнула: интонации Франка были точь-в-точь как у пастыря тогда, на ярмарке – плутовские.
– Чего?
– Денег расплатиться за лечение у меня кот наплакал, скажу прямо, – произнёс циркач, и Дени с Мелош сразу прекратили переругиваться. – Но есть кое-что получше, – он переглянулся с женой, и та кивнула. – Дорожные бумаги на сына. Ему было тринадцать, и он в меня пошёл, тёмненький. Но у нас краска есть.
Брат помолчал всего несколько секунд, а затем посмотрел циркачу прямо в глаза:
– Как звали вашего сына?
– Франк Макди, – ответил тот быстро, и голос его дрогнул. – … Второй.
– Привыкну, – коротко кивнул Дени.
Собирались заполошно. Госпожа Макди едва могла ходить, и потому первой перебралась в повозку. Лишнюю одежду решили не брать, чтобы не наводить на след, если армейские всё же догонят циркачей и станут обыскивать. Анаис позволила себе единственную слабость – отдала Франку два последних письма от Танета.
– Там адрес на обороте, – шепнула она, благодарно обнимая циркача на прощание. – Брат вам поможет, вы только доберитесь к нему. И… мне говорили, что на севере безопасно. На человечий век хватит.
– Значит, поедем на север, – улыбнулся Франк Макди. – Спасибо. Мы с женой вас никогда не забудем. Надеюсь, после войны свидимся.
– Дени берегите, – только и смогла сказать она.
– Как родного сына.
Цирковая повозка покатилась под гору, и вскоре скрип колёс затих вдали. А с неба посыпался снег, всё гуще, сильнее, и к утру город выбелило от канав до шпилей. За Дени и правда пришли – через четыре дня, вечером. Анаис безропотно позволила обыскать дом, промолчала, когда какой-то бородач нагрубил старухе Мелош, даже на все вопросы ответила честно. Но когда высокий белоглазый командир начал совестить её и уговаривать выдать убийцу офицера, она не выдержала – встала резко, выпрямила спину до боли.
– Только попробуйте, – прошипела Анаис, сама не узнавая свой голос. – Только попробуйте сказать, что мой брат поступил неправильно. Только попробуйте сказать, что это я сама виновата. Ну?
Ей на плечи опустилась страшная тяжесть, точно легли на них две раскалённые каменные ладони. Белоглазый командир недоверчиво моргнул раз, другой – и вдруг начал хватать ртом воздух, как рыба. Так продолжалось с минуту, а потом командир развернулся резко и, пошатываясь, вышел из дома, жестом созывая своих. Потом говорили, что за неделю он поседел, как старик, но проверить это было нельзя: на людях белоглазый больше не показывался.
С соседями Анаис отныне не заговаривала. И хотела – но не могла, язык делался непослушным, и губы немели. Даже когда линия фронта откатилась обратно, и чужаки оставили город, и страх ушёл, завеса недоверия и вины осталась. Наверное, именно она и притянула беду – в разгар зимы, когда случилась нежданная оттепель.
Первым заболел главный врач.
Симптомы очень напоминали недуг, который поразил жену циркача – слегка отёкшее горло, ломота в костях и мышцах, жар и бред. Старик утянул за собой всю семью, а на исходе месяца в редком доме обошлось без больных. Кто-то выздоравливал – сильные, крепкие, те, кто не имел недостатка в пище… Но много ли таких найдётся в городе, который дважды захлёстывала война?
Это сводило с ума.
Анаис сама не поняла, как сделалась в госпитале главной – то ли потому, что хворь её не брала, то ли потому, что старше и опытней никого не осталось. Бабка Мелош к тому времени уже неделю не поднималась с постели, но пребывала в здравом рассудке, ещё и ворчать умудрялась. Другим старикам приходилось ещё тяжелее. Самые слабые, они уходили первыми, даже раньше детей, и не помогали ни доктора, ни лекарства. Впрочем, люди в больницу за помощью вскоре обращаться перестали – и не потому, что им отказывали, а потому, что бесполезно.
Примерно тогда и выяснилось, что город держится не на армии, не мэре и не судье, даже не на пекаре, а на могильщике – или, может быть, мёртвых в какой-то момент стало слишком много.
– Четверо, – пробормотала Анаис, выходя из палаты. Те, кто там ещё оставался, кажется, не особенно-то и стеснялся холодных соседей. – Что же делать?
Шатаясь, она спустилась на первый этаж. Госпиталь точно опустел – навстречу ей не попалось ни одного врача, ни даже медицинской сестры. На пороге курил человек в мундире, накинутом на одно плечо.
– Простите, – позвала Анаис. Зрение помутилось от бликов. – Вы мне не поможете? Нужно отнести мёртвых на кладбище… Тут рядом.
Человек повернул голову; на солнце волосы отсверкнули рыже-красным.
– Ну, я-то причём тут? Сама и тащи, – и он плюнул на брусчатку.
Анаис размахнулась и залепила ему пощёчину. Рыжий расхохотался, потом закашлялся и умолк, но с места так и не двинулся.
«Я… сама?»
Остальное слилось в дурную муть. Чужие двери – сплошь запертые; просьбы и сбитые о дерево кулаки… Некоторые дома были открыты. В один такой она даже зайти не смогла – в нос ударил запах гниения. Анаис сама не поняла, как оказалась перед порогом Хайма, забарабанила по дверному косяку:
– Открой, пожалуйста! Это я, – и сползла на мокрые ступени.
– Анаис?
Южанин откликнулся почти сразу, но не вышел, а выглянул через приоткрытую щель – похудевший, с запавшими глазами и словно бы постаревший.
«Теперь-то всё будет хорошо. Он поймёт».
– Хайм, – губы дрогнули в улыбке. – Помоги мне, Хайм. Там люди… умерли. Надо похоронить. Хотя бы до кладбища…
Замок щёлкнул оглушительно, как выстрел над ухом. Ответ из-за дерева прозвучал невнятно.
– Если ты за этим – уходи. Как передумаешь – возвращайся, уедем отсюда.
«А как же бабушка Мелош?» – хотела спросить Анаис, но не смогла. Зато сумела встать – и сначала пошла, быстрее и быстрее, затем побежала, точно огонь, полыхающий в груди, разлился по венам и наполнил ослабевшее тело жизнью. Запнулась о камень, распласталась на брусчатке, снова поднялась.
«Не осталось никого, – стучало в висках. – Теперь ты одна».
Горечь бессилия поднималась изнутри, как волна, как война, захлёстывала с головой.
– Да пропади оно пропадом, – всхлипнула Анаис, приваливаясь плечом к фонарному столбу – на площади, где тысячу лет назад шумела ярмарка, и взмывали ракеты фейерверков к ночному небу, и девочка продавала красные яблоки, разложенные на перевёрнутом ящике.
Она вдохнула полной грудью – и за смрадом города ощутила вдруг запах дыма. Терпкого и горького, как от палёной шерсти, сладкого, как от сосновой щепки.