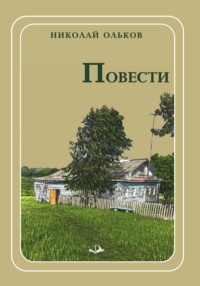Полная версия
«Птица, залетевшая в окно» и другие романы
«Весна каждый год ожидаема, как девушка на свидание, и является она всякий раз по-разному, одна на другую не похожа», – крестьянин всегда живёт в преддверии наступления весны, будущего сева, целительной весенней влаги, и «долгожданных дождей», чтобы «зёрнышко напитать и колос вырастить», и «в великих раздумьях и сомнениях» он, как «глубоко заборонить семя», «или чуть только притрусить землицей», как спасти его от изнурительной засухи. Извечные тревоги, муки и радости тяжёлого крестьянского труда, в котором нет и следа обыденной мимолётности, за который болит душа и у автора, ведь мало для него написать роман, он сам участник всех происходящих событий с его героями, он с ними рядом, и в поле, и на веселье, он всегда здесь, на родной сибирской земле. Отрадно, что за простоватой повседневностью, – это и есть его непреходящее, вневременное – его слова красоты и истины – всё то, что досталось ему от родной земли. Земля для него – нечто живое, нечто большее, чем данная реальность, она вечна и навсегда. Бунин в рассказе «Золотое дно» находит потрясающее определение: «Ведь земля-то сущее золотое дно».
Русская литература вобрала в себя глубины национального духовного опыта, непреложно сохраняющего верность нашим традициям. «Мать земля – это прежде всего чёрное, рождённое лоно земли-кормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный её эпитет «мать земля сырая»… Но ей же принадлежит и растительный покров, наброшенный на её лоно. Он сообщает её рождающей глубине одеяние софийской красоты… она же является хранительницей нравственного закона – прежде всего закона родовой жизни», – заключал русский историк, философ и литературовед Г. Федотов («Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам»). Органическое единство с «тайнами земли», аналогично равное нравственному— высшему Божественному закону, чувствовал в себе и Г. Успенский. Он считал, если крестьянин своё «крестьянство» забудет, «тогда не будет больше этого народа, тогда не будет больше мировоззрения народа, не будет больше душевной теплоты, которая от него проистекает». «Останется только пустой аппарат пустого человеческого организма», – трудно нынче не согласиться с ним, бесследно то и последующее за ним время для русской многострадальной деревни не прошло, и сегодня мы пожинаем горькие плоды собственного забытья отчих корней. Кроме глухой, внезапно пронзающей боли, равносильной вселенской тоске, когда видишь умирающие деревни нашей современной российской глубинки, ничего иного и нет в душе.
Следуя неизменной логике бытия, с надеждой на лучшее завершает Николай Ольков первую книгу своего «Сибирского романа»: свадьба Игната Забелина и Матрёны Вазгустовой – новая жизнь и рождение новой семья – внутреннее примирение и примирение человека со всем миром. Согласитесь, ведь весна всегда располагает к любви, когда оживает природа, так хочется радости, душевного света. Будет ли Игнат счастливее своего отца? – поверим, что не напрасно Никита Забелин ради лучшей мужицкой доли принял русскую смерть, пришедшую без срока и унёсшую его в своих кровавых потоках. Возможно, в земле и содержится оправдание всех прошлых, нынешних и будущих потерь. И весенняя природа радует открывающееся добру и полнившееся теплотой сердце крестьянина дождиком, «тихим, проникающим, самым хлебным». И надеется Антон Вазгустов на собственные крестьянские руки, которые не боятся труда, и полон непоколебимой веры этот «мужицкий философ», хорошо знающий цельность и мудрость жизни, а посему, как заключает он вместе с автором, «не должно быть недобрых перемен». Как видим, размышляя сам, Николай Ольков даёт пищу для размышлений и своему читателю, ставя вопросы, не теряющие своей актуальности и остроты на протяжении веков.
Сибирская вольница и новая власть
Что впереди? Победа, конец?Значит, не зря, объявляя Поход,Самый горячий крутой жеребецПод Атаманом копытом бьёт. Павел Васильев, «Песня о гибели казачьего войска» Видимо, в каждом векеСвой сумасшедший год! Николай Кудашев, «Ледяной поход»«Сибирский роман Николая Олькова».
Книга вторая. «Гриша Атаманов», повесть
Самые, может быть, любопытные страницы «Сибирского романа» Николая Олькова содержит его вторая книга «Гриша Атаманов», где показана национальная трагедия русского народа, его основной части – крестьянства, едва ли когда-то на своём веку испытавшего столько зла и насилия, трагедия, перерастающая в духовный кризис, который охватил первые годы существования молодого государства. Февраль 1921 года вошёл в советскую историю невиданным крестьянским восстанием, когда сибирские мужики в ответ на продразвёрстку, сравнимую с настоящим «грабежом», резко отличавшуюся от прежнего налога, встали, как бывало в судьбоносные моменты на Руси, всем миром. Но судьба мятежа сложилась трагически.
Однако о печальном – позже. Пока, как говорится, «суд да дело», герой повести Данила Богданович Атаманов основательно обустраивается на новом месте: поначалу переселенец срубил большую избу, затем вырос у него и добротный дом из кирпича. Как «мужик сообразительный», деловой, он сразу выбирает невесту – милую, скромную девушку Веру Тагильцеву. «До глубокого вздоха, до тайной слезы, до боли сердечной рад был жизни Данила Богданович: и с женой ему повезло несказанно, хозяйка, красавица, на ребят плодовита; и дела его выстраиваются в заметное предприятие, вот маслоделательный заводик направит, и на всю жизнь занятие…» – в таком же размеренном, радостно-приподнятом ключе, как течёт жизнь Данилы Атаманова, неторопко льётся и повествование Н. Олькова. Нежная и сильная линия любви пронзает всё пространство книги, она будто по духовному наследству, передаётся от отца к его сыну Григорию, четвёртому, младшему в роду Атамановых, особенно ладному, да и умом, красотой не обделённому. И «вот, какую силу поимел в сибирских краях новый род Атамановых, пять мужиков, пять семейств будет со временем, ничем не пережать и ничем не перекусить наше слово и дело!» – уверен герой Н. Олькова.
Но другая судьба была уготована Григорию Атаманову. Иные планы на сей счёт зрели и в государстве, правду и свободу для сибирского крестьянина отменяющие. Дурные предчувствия одолевали Григория: Первая мировая война, ставшая несчастной и роковой для России, революция, одним словом, неспокойное время выпало на его долю, втянув в водоворот протестных событий, истово разгоравшихся в крестьянской среде. Ему было суждено стать одним из первых действующих лиц Ишимского восстания – командующим Северной Народной армией – чтобы организовать, объединить поднявшихся против власти крестьян. Всему причина – набирающая угрожающие обороты злосчастная продразвёрстка: «цифры доведённого задания, они были страшными», поскольку вступил в силу приказ Ульянова – «вытряхнуть хлеб из Сибири», хлеб – то единственное, что могло спасти революцию. «Власть себя обнажила», – к такому окончательному неутешительному выводу приходят отец и сын Атамановы. Создаваемые большевиками продотряды безжалостно грабили крестьян, забирая буквально последнее, повсеместно насильно утверждался «язык пролетарской диктатуры». Сибирская вольница заканчивалась! Неспроста отец Григория, двигаясь «к неведомому краю Сибири», и фамилию себе тогда решил взять вольную, свободную, поменяв Чайкина на Атаманова. Автор приводит образное, колоритное сравнение малорусского крестьянина – «убогого, с чёрными руками и согбенным плечом» с сибирским мужиком – сытым, довольным жизнью, успешным, «потому свободным».
Если в природе есть свои незыблемые законы, то для человека этого нет. Власть ни с чем и ни с кем не считалась, руководствуясь лишь принципом: всё «выгребать до донышка». «Видимо, с давних пор увязалась за человечеством примета, что природа всегда опережает крупные перемены и знаменские события, как бы предупреждая человека о неотвратимом, мол, готовься, хотя от тебя уж ничто не зависит», – с тонким психологизмом автор объясняет причину лютых морозов, внезапно и резко ударивших в ту роковую зиму. Не к добру примета. Вот и М. Пришвин, всем своим существом погружаясь в природу, подчёркивал: «Неустройство в природе так действует на душу, что русский человек чувствует себя самого как бы виноватым во всём с виною в душе». Казалось, и природа согласна, что «народ сломлен», бессилен противостоять большевицкому произволу. «Продразвёрстка была исполнена», – врезается в память строка из повести, слова принадлежат Ленину. Эта цитата вождя пролетариата хорошо напоминает другую, ранее претворённую им в жизнь, которая кардинально изменила судьбу Державы, повлияв на дальнейший ход всемирной истории: «Россия завоевана большевиками» (ПСС, т. 36, с. 128). На сей счет напрашивается правомерный и неоспоримый вывод: обычно так говорят о вражеской и чужой стране. Есть над чем задуматься.
Стихия восстания сибирских мужиков выглядела непредсказуемо, и поначалу она развивалась спонтанно. Бунт, расправа, самосуд – ужасная картина, не поддающаяся однозначному пониманию. Пожалуй, это самые мрачные, кровавые моменты в книге, рисующие невыносимые сцены казни, что пугают, вызывают у читателя шок своей обнажённой натуралистичностью: «Весь вечер над деревней висел собачий лай, гремели выстрелы, бабий вой и мужской грубый мат смешались в страшном хоре. Полная луна с испугу прикрылась тучами, белесый туман жутким саваном накрыл землю». Автор вместе со своими героями не только вершит человеческие судьбы, но и думает о природе исторических бедствий, революций, войн, пытается понять причины затаённой ненависти. Главный ужас их даже не в стрельбе, не в голоде. Он в том, что освобождаются доселе скрытые, низменные, человеческие страсти. В людях накапливается огромная концентрация зла. «В народе великая злоба зрела», – говорится в повести. То, что в человеке прежде подавлялось законами, неизбежно выходит наружу. Для многих существуют лишь внешние законы, а внутренних табу у них нет, и когда-то всему этому должен быть выход – наступление всеобщего помутнения разума. Благочестив, но и бессмыслен, беспощаден русский человек. Свои в дикой, неистовой ярости убивали своих же, верша непоправимое. В этой битве победителей не бывает.
В любом случае, Григорий Атаманов горько переживает жестокую смерть отца любимой им девушки. Он знает, что время уходит, а повстанцы не получают должной и обещанной помощи и не в состоянии собственными силами взять железнодорожную станцию Ишим, не могут они захватить и город, чтобы перекрыть большевикам пути поступления хлеба в Москву и в Петроград. Понимая всю обречённость, безысходность, всю дальнейшую трагичность мятежа, автор сочувствует своему герою, сравнивая его состояние с состоянием «обложенного волка», который аналогично чует «неизбежность гибели» и лихорадочно ищет спасения. Григорий вспоминает давнюю охоту с отцом и мужиками на волков: тот взгляд волка ему никогда не забыть – взгляд загнанного матёрого зверя. Особенно тяжело читать финальные строки повести, когда природа дышит весной, когда торжествует нестерпимо яркий запах воздуха, а Григорий Атаманов готовится к расстрелу, когда так хочется молодому человеку, полному сил и желаний, жить. Но звёзды на весеннем небе решили иначе: не суждено ему никогда увидеть сына, который вот-вот должен появиться на свет.
«Бездонное чистое небо со звёздами. Тёплый ветерок подул из казахских степей, только начало апреля, а уже чувствуется, что весна идёт. Атаманов закрыл глаза, и слеза сверкнула на его щеке в свете восходящего утра…» – и сердце сжимается, и тоже хочется сглотнуть подступающую к горлу слезу… Как коротко пребывание человека на земле, как нестерпимо больно за его жизнь и судьбу! Николай Ольков – мастер создания духовно властных образов. Перед нами – неминуемая смерть героя и вместе с тем, вопреки настойчивому зову смерти, поднимается чувство некоей огромной спокойной силы и надежды, поднимается и начинает расти внутри. Нечто похожее прочитывается и у прозаика Леонида Андреева в финале его рассказа «О семи повешенных» (1908 г.), где смерть продолжает бороться с пробуждающейся жизнью, до последнего надеясь победить её торжество, ещё только набирающее силу: «И так же мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух… Так люди приветствовали восходящее солнце».
Стоит заметить, что где-то суровый и в то же время где-то трепетный писатель Николай Ольков почти виртуозно улавливает нерв создаваемого текста. Он способен заставить читателя не только радоваться, но и страдать, и сопереживать, и способен скупую слезу у него вызвать – некая своего рода проверка на истинность современного творчества, уже достаточно редко чем-либо трогающего наши усталые души. Совершенно иное дело классики, там действуют высшие измерения. «Есть чувство правды в сердце человека, / Святое вечности зерно…» – до сих пор остаются пронзительны лермонтовские строки. Именно правда жизни и правда литературы пересекаются и в прозе Николая Олькова, никоим образом не противореча друг другу, а наоборот рождая в его «Сибирском романе» это святое зерно всеобщей истины, зерно слова и дела, зерно писательского и крестьянского труда.
Продолжает тему народного восстания, народного гнева, кровавого и беспощадного, завершающий книгу рассказ «Повстанец». Весьма необычен в нём ракурс раскрытия происходящей действительности: жизнь сибирского крестьянина, его безысходная трагедия видится здесь глазами деревенского паренька Кольки, который по-своему осмысливает судьбу Демьяна Трушникова, активного зачинщика бунта, казнившего в 1921 году комсомольцев и коммунистов, затем осужденного на 25 лет валить лес. Рассказ имеет сквозную связь, благодаря которой сохраняется единство персонажей, крепость их преемственности. Обращает на себя внимание одна существенная деталь: тайна – то, что крылось под оболочкой, в глубине самой натуры этого, мягко говоря, странноватого повстанца.
Демьян поведал приглянувшемуся мальчишке свою неизбывную боль, рассказал о гибели сына, какому было тогда 15 лет, как нынче и Кольке. Поволжские «инородцы» из продотряда, силой забиравшие наличный хлеб, не пощадили его сына. Охватывает чувство невосполнимой потери, настолько пронзительно автор смог передать горе Демьяна, когда тот после поджога избы, где спали убийцы, возвращается домой: «Оделся, вышел – в морозном воздухе пахло свежестью, ветер уносил запах пожарища в другую сторону. Постоял, стал мёрзнуть, пошёл во двор, где жило его горе», – всего лишь скупой и точный штрих и, кажется, уже навсегда образ готов. Современные писатели этим порядком пренебрегают, когда как прежние писатели относились к подобным деталям с особенным вниманием. Колька слушал этот предельно откровенный рассказ, будучи потрясён до глубины души, до внутреннего катарсиса, что можно вот так просто казнить своих же людей. Тут поражает и монолог самого Трушникова, поднявшегося до философского осмысления жизни: «Вот стал я думать тогда, а что же есть человек? Отчего из-за куска хлеба цельный народ на дыбы поставили?». Власть разделила собственный народ, помогая одним и презирая других. Коммунары, чувствуя поддержку государства, получая от него технику, деньги, не стремились работать с самоотдачей, а нанимали местных крестьян. Зажиточные же мужики составляли конкуренцию коммунам, потому что у них превалировала, как утверждал В. П. Рябушинский, «выстраданная идея собственности», которую «русский народ никогда больше не отдаст», – делает вывод видный политический деятель в своей статье «Судьбы русского хозяина».
К примеру, у современного писателя А. А. Яшина есть повесть «Коммуна комиссара Гоши», где он описывает калужскую деревню по линии своей матери, убедительно касаясь и роли коммунаров, которые прибыли в деревню, чтобы организовать передовой колхоз-коммуну, но вместо оного занимались пьянством, грабежом, разбоем, весьма печально закончив это поначалу громкое, многообещающее предприятие новой власти. Замечу, что небольшой рассказ Н. Олькова – сложная по художественному жанру форма – вбирает в себя немало судьбоносных пересечений, сопоставлений, сравнений, из которых и состоит человеческая жизнь. Мы вновь встречаемся с Григорием Атамановым, когда он уже осознаёт всю противоречивость, двусмысленность повстанческого движения: «…много жестокости, чересчур – много», – признаётся он в своих мучительных прозрениях. Задача взять Ишим провалилась, вероятно, в большей степени из-за узости и недалёкости крестьянских взглядов и убеждений, когда все намерения бунта и установления порядка общины заканчивались у себя же в селе, а то, что было за околицей, сибиряков серьёзно не волновало. Вполне закономерно, ведь русский народ отрицательно относился ко всем революциям.
Но как бы там ни было, зло всегда порождает зло. Самосуд и казни, совершаемые повстанцами, не могли принести им душевного покоя и счастья. Убитые и убийцы – их в рассказе не разделить. «После обеда судьи и палачи напились в доску, топя в самогоне страх перед людьми и Богом <…> Свои деревенские казнили других лютой казнью», – где-то бесстрастно, явно скрыв эмоции, пишет автор. Может быть, ошибаюсь, но единственно заслуженная казнь, не вызывающая сожаления, хотя автор этого прямо и не выказывает, – казнь губернского продкомиссара Инденбаума, жестоко разорявшего крестьян. Так или иначе, не пожалел и его повстанец Демьян, не дрогнула уверенная рука сибирского мужика, дескать, знай наших.
Что характерно: похожая мировоззренческая основа трагичности человеческой судьбы, вечных поисков русской правды заложена в последних мыслях главного героя в повести «Гриша Атаманов» и в последних словах другого героя в рассказе «Повстанец», которую едва ли посчитаешь внезапной литературной параллелью. «Помни меня как повстанца, а не как бандита. Прощай», – говорит Кольке, будто исповедуется, Демьян Трушников, тем самым подводя свой итог восстанию сибирских крестьян. Невольно всплывают в памяти слова русского святого, преподобного Серафима Саровского: «Мир между людьми начинается с мира в человеке». Но как нелегко утвердить мир и сохранить его в себе, как мучительно человек приходит к очевидным и простым истинам. Исходя из всего имперского могущества Руси, из всего духовного прошлого русского народа, писатель Борис Зайцев мудро считал, что «истинная Россия есть страна милости, а не ненависти».
«На себя вызывает огонь…»
Славя крест, имущество славя,Проклиная безверья срам,Волны медные православьяТяжко катятся по вечерам<…>И сказал Евстигней: / – РазлукаС прежним хуже копылий, ям,И с хозяйством, – / Горчее мукиТихо высказал, – / Не отдам. Павел Васильев, «Кулаки». 1922 г. (Разгар коллективизации) Мой ли с миром путь не одинаков!Чем же всех других виновней я?Боже, Боже звезд и хлебных злаков,Пощади меня и муравья. Геннадий Фролов, «Ничего не надо…»«Сибирский роман Николая Олькова».
Книга третья. «Кулаки», роман
Довольно многопланова в сюжетном отношении, глубокомысленна в нравственно-философских коллизиях третья книга «Сибирского романа» Николая Олькова «Кулаки». Прежде всего, в ней возрастает критическая настроенность относительно несправедливо устроенного общества, ибо оно не может принести крестьянину счастья, полной удовлетворённости результатами своего труда, дать ему радость свободного созидания на родной земле. Впрочем, не исключено, что кому-то роман «Кулаки» покажется замечательно несправедливым и одновременно замечательно острым по мысли. Мы не найдём у автора откровенного осуждения, либо полного неприятия советского строя, но нет у него и явного оправдания того тотального зла, которое принесла революционная эпоха. Будучи корневым русским человеком, уверенно стоящим на твёрдой крестьянской почве, писатель отличается – по тематике, слогу и художественному направлению. В этой книге немало аналитических раздумий, гражданской тревоги автора за человеческие судьбы, ведь попав в опасный водоворот истории, выживали самые стойкие. Мировая война, революция, война гражданская, интервенция нанесли крестьянству невиданный ущерб, пожалуй, как никакой другой части населения. Были разорены тысячи деревень, заброшены миллионы гектаров пашни. Повсюду в стране начинался голод.
Роман особенно актуален сегодня, когда мы буквально недавно перешагнули столетний рубеж НЭПа. Восемь лет новой экономической политики – самый удачный проект советской власти. Крестьяне поверили, что и к ним власть прислушивается. Да и сам НЭП стал разумной реакцией на вооружённые протест 1921 года, вспыхнувшие против продразвёрстки, о чём, как мы уже знаем, идёт речь в повести Н. Олькова «Гриша Атаманов» и в его рассказе «Повстанец», имеющем с ней прямую взаимосвязь. Х съезд РКП (21 марта 1921 г.) законодательно утвердил продналог, что пришёл на смену продразвёрстке. После введения НЭПа словно манна небесная снизошла на деревенских мужиков: появились хорошие и дешёвые продукты, а крестьяне, исстрадавшиеся по своему любимому делу, будучи в напряжённом ожидании обещанной передачи земли, трудились не покладая рук. Даже без тракторов и комбайнов с 1922 по 1928 гг. сбор зерна вырос с 36 до 77 млн тонн, хотя ещё в целом крестьяне по-прежнему жили бедно.
Однако Сталин не мог окончательно принять частную собственность и во главу угла ставил социалистический принцип обобществления – это та неразрешимая дилемма, что до сих пор вызывает горячие споры в обществе. И тогда, и сегодня опять мало чего дождались крестьяне. Опасаясь реставрации капитализма, правительство очень скоро прихлопнуло НЭП, а крестьянам оставалось жить надеждой, что землю им всё-таки дадут. Доколе продлится такое унижение собственного народа, затянувшееся на долгие десятилетия? Сильное противостояние охватило весь народ: с одной стороны – крестьяне как основной союзник пролетариата, с другой – они же как объект длительной борьбы. Посему и в книге «Кулаки» мы наблюдаем верх бесчеловечности – раскулачивание зажиточных сибирских семей – конечный итог политики НЭПа, когда кулака истребили как класс. Именно зажиточных крестьян называли, не иначе, как кулаки, «сельская буржуазия».
В центре повествования романа Н. Олькова «Кулаки» – Мирон Демьянович Курбатов, «думающий, расчётливый крестьянин», прочно обосновавшийся в сибирском селе Бархатово, которое является главным средоточием основных событий. «Нынче хлеба свезли столько, что моих мужиков с последним возом чуть назад не отправили: некуда ссыпать. Разве такое было когда? Три последних года трудящийся мужик хорошо окреп, судьбу за бороду ухватил. И кредиты будем брать под посильный процент, и технику покупать. Я сразу бы трактор взял, край нужен», – с воодушевлением, с трудовым энтузиазмом, какие переполняли его, говорит Мирон об эффективности системы НЭПа председателю исполкома, большевику Всеволоду Щербакову. Их разговор сразу выявляет столкновение разных взглядов: коммуна как будущий путь развития деревни, опора власти на беднейшее крестьянство, ни на что самостоятельно неспособное, ожидающее помощи от государства. Совершенно иной подход у крепких мужиков, составляющих, по мнению Курбатова, настоящий «костяк села». Тут тебе и «большие пашни», и «большие сотни пудов» мяса, и «паровые мельницы», снабжающие мукой весь край, и лес, и изготовление шпал для железной дороги, и уникальная выделка шкур – всего и не счесть! «Все мужики трезвые, семейные, детные, в жизни уверены, да и не особо озабочены иными делами, кроме своих», – разве они могли поверить, что власть однажды передадут бедноте?
Да и Сталин, будем откровенны, испытывал страх: «Россия может вернуться к капитализму», – это двусмысленный факт подчёркивает и Н. Ольков. НЭП – явление временное – не без веских на то оснований считает и довольно неоднозначная личность в романе – партийный работник Щербаков, что, собственно, очень скоро становится очевидным и для остальных персонажей: крестьянского хозяина Мирона Курбатова и торгового купца Емельяна Колмакова. «Ни хрена у вас не получится обмануть Мирона Курбатова, он ужом проползёт, чёрным вороном взлетит, но своего не отдаст», – так рассуждает своевольный сибирский мужик, принимая «крутое решение» – исход из села в глухую тайгу. Они снова построят дома, распашут земли и опять станут жить, как жили их отцы и их деды. Это свобода! «Уйти в тайгу на пустое место, начиная жизнь заново с топора и сохи», – во многом и утопичная идея-мечта Мирона о честном колхозе всё же возымела своё действие: полтора десятка самых зажиточных семей уходят далеко в тайгу. «Обоз в тридцать саней, ни на что не похожий, катился по сельской дороге от одной деревни до другой, третьей», – и, казалось, труднопреодолимые вёрсты и для сибиряков, и для автора, и для читателя оставались позади.
Любопытно и честно об истинной природе русского мужика размышляет мыслитель, публицист, так же, как и автор социальных романов А. Зиновьев и бывший в СССР под запретом И. Солоневич, заставляя задуматься о том, кто врёт: история или мысль? Солоневич давал оригинальные и неожиданные оценки тем или иным историческим событиям, говорил не только о «таинственной славянской душе», но и пытался исследовать природу русского мужика, которого недооценивала та же русская литература, русская классика, оторванная от реальности, ставшая в той или иной степени причиной революции, а в последствии и Великой Отечественной войны. «Крепостной режим искалечил Россию», – отмечал Солоневич. А расцвет русской литературы совпадал с апогеем крепостного права, которого, повторюсь вслед за Н. Ольковым, никогда не знал сибирский мужик. Выдающиеся русские классики писали в пору этого апогея, отличаясь при этом весьма противоречивыми суждениями о русском мужике. Русская литература, по словам писателя-историка И. Солоневича, была великолепным отражением «великого барского безделья, недооценивавшего крестьянина, когда русский мужик – деловой человек». Подтверждение этим мыслям можно найти в романе Н. Олькова «Кулаки», когда сибирский мужик Мирон Курбатов способен в экстремальных ситуациях мобилизоваться, оставаясь человеком деятельным, энергичным, который ни при каких жизненных обстоятельствах не опускал руки и не боялся никакой тяжелой работы. Кроме того, он трезвый человек, а не бездельник и праздный пьяница, заметим, по душевому употреблению алкоголя дореволюционная Россия стояла на одиннадцатом месте в мире. Именно о таких людях с прочным внутренним стержнем пишет Н. Ольков. Крестьянский мужик – человек, знающий, что ему надо, в отличие от русского интеллигента, одержимого лишь идеями социального мессианства, к тому же русская интеллигенция всегда была в оппозиции правительству. Дело же русского крестьянина – дело маленькое, но это есть дело. Оно требует знания жизни и людей. Поэтому мужик должен быть умнее Бердяевых. Они, русские крестьяне, сталкивались с миром конкретных вещей, не могли позволить себе права на ошибки в отличие от тех же философов, литераторов. Классики же упорно представляли нам лики бездельников, создавая всё новые и новые загадки. Толстовско-каратаевское непротивление злу, достоевская любовь к страданиям, чеховское безволие – со всей исторической эпопеей русского народа далеко не всегда, лишь отчасти, либо вообще не совместимы. Герой Н. Олькова, сибирский мужик Мирон Курбатов, волевой, независимый, не собираясь сдаваться на милость обстоятельствам, как раз и доказывает обратное.