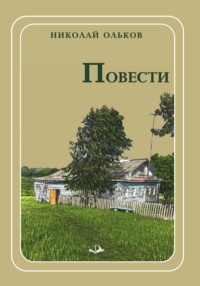Полная версия
Про жизнь и про любовь
Он задремал незаметно, натрудив память едва уловимыми воспоминаниями, и во сне слышал трубы, медный звон их – то торжественный, то траурно-грустный, как будто прощальный. Звуки то исчезали, то появлялись с новой силой, сопровождаемые барабанными переборами…
Проснулся Федор Петрович поздно. Убаюкивающее покачивание вагона, сдержанный говор внизу уходили за пределы реально ощущаемого мира, Федор Петрович чувствовал себя над этим временем, думы растворялись, и ни одна не находила конечной цели. «Василий, Панфилович. Максим, Костя, – он перебирал в памяти тех, кто еще жив. «Генке не буду ничего говорить, сам съезжу». Поймал себя на мысли, что все-таки собрался просьбу Василия выполнить и осторожно удивился, что нелепость наказа отдалилась, что видел он сейчас какой-то большой смысл в просьбе Василия, смысл больший, чем сама просьба…
Геннадий встретил его у выхода из вагона, горячо обнял, давая носильщику знак забрать сумки. По перрону вел отца под руку, отчего Федор Петрович чувствовал себя неловко. Выпростал руку:
– Ведешь меня, как бабу.
– Так тебе удобней.
– Удобней! Не на цепочке, а привязан.
– Ну, батя, к тебе никак не приспособишься.
– А ты не приспосабливайся, не надо.
Вместе с носильщиком прошли к остановке такси, сын щедро рассчитался, а Федор Петрович подумал, что и сами, два мужика, могли донести сумки, но ничего не сказал. От площади трех вокзалов отъехали уже солидно, когда Федор Петрович вдруг спросил:
– Генка, ты Василья Погорельцева помнишь?
Геннадий чуть замешкался, потом просиял:
– Который школу чуть не спалил?
Был, действительно, такой случай, когда Василий истопником в школе работал. Если бы из пекарни ночная смена не увидела, сгорела бы школа, и Погорельцев был бы тому виной как истопник. Отец не возразил: ругать старшего сына он отвык. Сказал только:
– Васька-то под началом у Рокоссовского воевал, две «Славы» у него да «Красная Звезда». Васька – герой.
Геннадий не обратил внимания на его слова. Федор Петрович возмутился:
– Я говорю: Васька-то герой.
– Ну, чего он тем сделал еще, герой ваш? – с улыбкой спросил Геннадий.
Отец оторопел.
В сознании его вновь зазвучали трубы, те трубы, что не давали ему спать ночью, примешивая к своему торжественно-траурному звучанию неритмичную дробь барабанов. Неужели трубы эти – скорей всего свист ветра, самые яркие сполохи их – гудки своего и встречных тепловозов, а барабаны – перестук колес на стыках?..
В оплаканное ненастной Москвой стекло он видел раскрытые книги домов Калининского проспекта. Машина, став частью потока, сделала его частицей этого большого города. Федор Петрович тронул шофера за плечо. Тот привычно повернул голову вполоборота;
– Сынок, заверни-ка на Красную площадь.
– Зачем, батя? – насторожился Геннадий.
– Не мешай, – спокойно сказал Федор Петрович. Машина остановилась в тупике, шофер сказал, что дальше ехать нельзя и что он подождет при условии аванса. Федор Петрович положит на сиденье синенькую бумажку.
По площади шли молча. Взявшись за канатик, он смотрел на молоденьких часовых и молоденькие ели, Геннадий не мог уследить за его взглядом и потому не мог ничего понять. "Докладываю вам, товарищи командиры, которые в стене, и отдельно тебе, маршал Рокоссовский, что живы еще ваши солдаты Васька Погорельцев и Федька Бородин, кланяются вам и желают светлого места. На том извиняйте, посторонние тут".
Он чуть заметно поклонился и стер ладошкой туман с глаз.
Когда пошли обратно, Геннадий, чтобы завязать разговор с отцом, спросил:
– Василий-то, что, умер?
– Еще живой, – сказал Федор Петрович.
– Почему ты его вдруг вспомнил? – настаивал сын.
Отец молча шагал по крупной брусчатке, совсем не слыша сына, принимая из далекой памяти нечеткие звуки, помогающие настроить шаг.
– Батя! – окликнул Геннадий.
Музыка исчезла. Федор Петрович смутился, потоптался на месте.
– Что с тобой, отец? – Геннадий взял его за плечи, посмотрел в глаза. – Нельзя же так волноваться. Ну, понятно, Красная площадь, сердце страны, и так далее. Первый раз это всегда волнует.
Федор Петрович усмехнулся горько;
– Вот ты прав, Генка. Первый раз до холода вот тут, – он постучал по груди, – волнует, так волнует, что сам себя не помнишь.
Генка его не понимал.
– Оттого и плохо помню сейчас, как мы тогда с Васильем строевым шагом вот тута-ка шли. В сорок первом, седьмого ноября… Как трибуне откозыряли. Потом сразу на фронт. А вот музыка была тогда или нет – убей, не помню. Вроде как была…
Генка теперь не мешал разговором. В машине ехали тоже молча. Федор Петрович все больше приободрялся, чувствуя только ему понятную радость от того, что сумел выполнить наказ фронтового товарища Василия Погорельцева, и уже считал свою поездку в Москву законченной. Выложить огурцы, грузди и банки с вареньем, а также кусок вяленого мяса, завернутого в чистую тряпицу, – дело несложное.
Вопрос в том, разрешит ли Генка взять завтра на Красную площадь трехлетнего Дениску. Для Федора Петровича это очень важно. Услышит ли Дениска трубы?
После метели
Рассказ
– Марья Сережиха задергушки с окошек сняла, знать-то опять изловила своего долгоспанного у шмары. – Максим выхлопал о деревяшку изрядно поношенную шапку, снег разлетелся по избе, смочив полосатые половички. Он прошел в передний угол, сел на лавку и снял протез.
– С чего ты взял, что изловила? Можа, простирнуть сдернула занавески.
Жена Груня всегда ему возражала, Максим не сердился, согласись она – и поговорить будет не о чем. Март навалил снега, между домами с ляги наклало сугробов, что не перелезти. С последнего бурана Максима заперло дома, выбирался только в проулок, который ветер продрал до мёрзлой комковатой земли, тут и высмотрел пустые Сережихины окна.
– Не накатали дорогу-то? – Груня неделями не выходила в деревню, да и зачем? Картошка в подполье, мука в сусеке в холодных сенках, сахар с осени наменяли у Петропавловских казахов на овес и ячмень. Свиная тушка висела в сенках, Максим тут же на чурке рубил топором, дробя кости, осталась задняя ляжка да ребрышки. Сказал, что мясо срежет и засолит, а после повесит на жердочке под стрехой – вялить.
– Кто её накатат? – Максим продул муштук и заправил самокрутку. Табак уж сколько лет рубил сам, Антоха привозил базарные сигаретки, чуть не задох от них. Самосад привычней, в войну ему высылали на фронт афонский табачок, вся батарея наслаждалась. Политрук шутил: «От вашего табака фашисты в окопах чихают». Уж после узнал: табаком деревня спасалась, на санках в Петропавловск возили бабы, на базаре спрос хороший, тем и налоги платили, и облигации выкупали. У Груни вон вся крышка сундука изнутри облигациями уклеена. Максим выкамуривает: «Вот объявит товарищ Хрущев, что выкупат гумажки – отмачивать будешь». Понимал, конечно, что навечно они в сундуке, но промолчать не мог.
Еще до мартовской падеры, когда скотники на широких дровнях укатали январский снег в улице, и Максим ходил по насту, не проваливаясь деревяшкой до нехорошей боли в культе, выгостился он у Артема Лаверовича. Темным вечером видел в окошко, что огородами к заднему двору председательской усадьбы притащили трактором добрый стог сена. Утром пошел по следу, клочок сена подобрал: лесное, июлем дышит, хоть чай заваривай. А после обеда пошел к другу. Воевали вместе, один ногу оставил, другой руку – малой кровью это называли. Но Артюха сомустился и написал в партию. Сразу медаль получил, потом старшиной стал. После войны, как партийного, его назначили заведующим фермой, но случился падеж скота, и как раз Сталинский закон о социалистическом животноводстве. И загремел бы друг на лесозаготовки, да аккурат в эти дни вызвали Артема в военкомат и повесили большой орден. Судить не стали, а с должности сам ушел, испугался, в другой раз орден может не погодиться. Вот ему и хотел высказать Максим про председательское сено.
– Артём, что у вас в партии за порядки? Если член, то начальник, а если начальник, то жулик. Да, и не выбуривай на меня.
– Макся, ну, не все ведь жулики.
– Да уж… А с сеном что будем делать? Надо на собранье поднять Ероху, пусть вернет сено телятишкам.
– Макся, ты как дитё малое. Ну, кто поднимет Ерохина? Он же председатель. Ты вот сыну своему…
Сын Антон давно живет в районе, большой начальник, это Максиму его крестный Владимир Прокопьевич сказал. В газетке чин, в прошлом годе критиковал колхозное правление, крестный приходил с обидой, что и ему перепало. Максим велел выписать газетку и читал ее на вытянутых руках от названия и до знакомой фамилии на последней странице. Антон в апреле приезжал дрова пилить, летом сено косить. Да и просто в выходной мог подкатить на «бобике», забежит, бывало:
– Мама, сорви пару огурчиков да горсточку лучку защипни.
Максим у раскрытого окна, все слышит и видит. На заднем сиденье за занавеской бабочка схоронилась, ждет не с терплением. Сын к открытой створке с улыбкой:
– Папка, я в субботу приеду, помогу картошку огребать.
– Я седни куда погребешь? Ох, Антоха, узнат Настёна, она тебе все хозяйство на пятаки порубит.
– Что Настена – пошумит, поплачет и простит. Папка, партия всего страшней, сильно ревнивая женщина. – Сын отцу это тихонько, шепотом.
По партийной линии у них уже была стычка. Тогда приехал Антон на попутках, в сельпо забежал. Максим сидел в горнице за столом, просунув под стол деревяшку, и с тоской глядел поверх домов на бескрайнюю Кизиловку, где в старые годы на Паску устраивали конные скачки, в которых нелепо погиб старший брат Никита, на гору, где все еще видны были колчаковские окопы, из которых солдатики стреляли в красных, а пуля попала прямо в окно и пробила филенку горничных дверей. Маленький Максим не успел напугаться, нянька Анна схватила его и толкнула матери в подпол.
Антон прошел вперед и выставил бутылку водки на середину стола. Максим подозрительно посмотрел на него:
– По какому случаю магарыч?
Антон с гордостью сказал:
– Папка, я в партию вступил.
Он видел, как трудно выпрастывал отец деревянный протез из тесного пространства между столом и стулом, наконец, Максим встал, глянул на бутылку, на сына:
– Антоха, вот что ненавижу, то Бог дал. – И пошел, тяжело припадая на правую ногу.
Это больше не вспоминалось, только раз Антон заговорил с отцом:
– Папка, ты воевал за советскую власть, за Сталина. А партию не любишь.
Максим не знал, что ответить. Воевал, и все воевали. Сталина жалко, выкинули дедушку из мавзолея, кому мешал? А партия… Три члена живут в околотке, и все хоть некорыстные, а начальнички, он видит, как телятишек-сеголеток везут пастухам-казахам на отгоны, а осенью сдают быков трехцентнеровых, как зерно тихонько привозят свиней кормить… Ничего тогда сыну не ответил, а теперь снова надо этот разговор заводить.
– Пропиши про это в газетке, вот тогда люди узнают, что есть правда. Мне за ногу дают восемнадцать рублей, и я живу. А Ероха на всем колхозном. Это как?
Теперь уже сын не ответил. Помолчал, поднялся:
– Пойду баню подтоплю.
Тоскливо Максиму, с Груней много не наговоришь, да она и не знает деревенских новостей. Самому бы дойти хоть до Ивана Лаврентьевича, в карты поиграть, пошпакурить, но не накатали след в суметах, скотники, видно, вкруг деревни ездят. Случись в такое время помереть – на рукотертах понесут, а куда деваться, до весны не оставят. В прошлый раз крепко сошлись, пятеро мужиков: Киприян, Мишка Лепешин, Алеша Крутенький, да они с Иваном. Сразились в свару, Максим жене ничего не сказал, неловко, но в тот вечер карта ему шла, три банка забрал, заприхохатывал, потом мимо да мимо, и проиграл пять рублей. Заикнулся было у хозяйки перехватить тройку, только Ульянка осадила: «Уймись, раздухарился! Скажу вот Груне!». Не сказала, но Максим долго не мог в толк взять, как его занозило, не сразу понял, что продулся.
Максим не был выпивохой, дома бражка не выводилась, ну, принимал после бани бокальчик, а больше – нет, хватало. Только иногда приходил «с обходов» под хмельком, Груня не ругалась, нет у неё такой моды, только улыбалась: «Опять прихватил где-то?». Максим соглашался: «Не говори! Шел по улке, ничем-ничего, а у Прокопия Александровича кампанья. Загаркали. Принял стаканок».
Антон с осени не бывал, Максим в душе казнился за язык свой, но тихонько радовался, что сын в него характером, упертый.
Тот год был шибко неловкий, хлеба не намолотили, сена не припасли для скотины, а, как на притчу, ранняя зима упала. Прикинули начальники, что с таким фуражом к весне коров на веревках поднимать придется, стали выход искать. И тут наука подсуетилась: солома есть, понятно, что таком виде она несъедобна, надо ее размягчить, дробленкой сдобрить, и будет приличный корм. В районе провели показательную закладку такой рецептуры, райком дал команду редактору подробно осветить всю технологию, чтобы распространить передовой опыт по всему району. Антон с фотографом засняли все по порядку: в силосную траншею укладывается слой соломы, поливается раствором каустической соды, далее слой силоса, слой дробленого зерна, потом снова по кругу. Вся закладка накрывается пленкой, сверху соломой и землей. Через неделю можно открывать и давать скоту. На двух страницах газеты с фотографиями напечатан передовой опыт.
Антон приехал без семьи на машине, загнал в ограду, слил воду. После бани сели за стол, Груня поставила кринку отстоявшейся бражки, в жаровне утка с крупой из русской печки, в тарелках грузди, огурцы, капуста. После первого стаканчика разыграли утицу, Максим оглодал крылышко, вытер полотенцем руки.
– Антоха, ты какую муйню в своей газетке пишешь?
– Что опять не так? – насторожился сын.
– Да все не так! Ну, ты же деревенский житель, сам сено косил, скотину кормил зимой. Ты хоть раз видел, чтобы мы корову соломой кормили? Было, что и соломой, но до тебя. А ты умодил: каустиком солому полить, и корове.
– Папка, это не я придумал, это ученые предложили, ты же знаешь, какое положение с кормами.
– Весной надо было думать! Не перегонять друг дружку, кто раньше отсеется. Молчи, и ты подхваливал: ранний сев! И куда теперь с этой соломой? Наши придурки на неделе открыли яму, ветер на деревню, едва не сдохли. Я в Омск за протезом ездил, на станции Ишим в тавалет ходил – точно такая вонь, передо мной, видно, в яму каустика набросали. Кое-как наружу вырвался, штаны на ходу застегивал. Ну, навалили в кормушки – коровы морды воротят. Правда, Антоха, на твое счастье одна жрала по полному рту.
– Вот видишь! – обрадовался редактор. – Значит, ей попал правильно приготовленный корм.
– Нет, сын, не угадал. Она, наверно, партейная.
Груня – от греха подальше – ушла в горницу. Сын встал изо стола, накинул шубейку и вышел. Максим видел, как он залил в машину горячую воду из бани, открыл ворота и уехал. С тех пор не бывал. Мать ходила в контору, просила Владимира Прокопьевича позвонить, приходила домой в слезах. Только Максиму ничего не говорила. Он не любил, когда кто-то вмешивался.
Семья
Сказ
– Свята икона, вот сижу и думаю, с которого краю начинать, потому как житуха наша жалостливая и никчемная, а жить-то надо, хоть новой раз и взбрыкнешь: «Да лучше бы Господь прибрал, чем все это видеть и пропускать, а сердце не каменное». Как-то посередь улицы обмер я, завалился, медичку привезли, отдула, в район отправила. А там нашего брата в каждой камере по шесть, сестричка забежит, таблетки на стол кинет и гумажки с фамилией, а я глянул через увеличительные очки, в которых за пенсию расписываюсь: бог ты мой, таблетки-то все однаки. Сижу на койке и кумекаю: тот с грыжей, этот с животом пособиться не может, у меня кровя в башку кидаются, аж в глазах темно. Не стал ничего говорить, собрался и вечерком с автобусом домой.
Живу я девяносто лет, а сны вижу цветастые, радугу вижу и птиц райских. Проснусь, и до того на душе светло и томно, что лежу и не шевельнусь, знаю эту причину: как только ворохнёшься – сразу все виденья пропадут, и окажешься один на один со старостью. Я, грешным делом, стариком себя не осознаю, ну, знамо дело, и сила не та, и работы той, что раньше робил, уже не сдюжить, опять же, как венчанную свою проводил, так к женскому полу никакого стремления. А речи про меня разные в деревне, будто знаю травы и заговоры от слабины мужщинской, даже бабы стучались вечерней порой: «Пропусти, сил нет, чем хошь одарю». Все как есть правда: и травы знаю, и другие разные приспособы, но только при большой нужде помогал семьям. Зачем мужику дурь нагонять, если рядом с ним желанная бабочка и близко к сердцу? Чего про меж их бывает, каждый должен испытать, иначе и не жил на свете. Сам через то прошёл, помню, а в чужой кровати и после взвару того не достигнешь. Был у нас в деревне бык-производитель, водили его по дворам, исполнял свою службу, вот так и мужик иной, единожды в том краю ночует, потом в другом.
Ну, полно об этом. Когда новая жизнь случилась, флаги поснимали, партейных с должностей поперли, кто-то сказал, что вот теперь коммунизм и наступит. Я, грешным делом, столько разворотов за свою жизнь испытал, и только одно усвоил: после, как вверху начальство новое сядет, добра мужику ждать неоткуда. Так и тут.
Живет со мной рядом в приличном доме, еще при колхозе ставили, хорошая семья. Нет, не могу притворяться: жила та семья. Мужчина, хозяин то есть, дальней родней мне по старухе приходился, в колхозе механиком был, Михаилом Гавриловичем звали. Ну, по мне просто Михаил, да и никаких возвеличиваний. И он ко мне славно относился, вообще с народом был запросто. А когда все ломаться-то начало, колхозишко и потянули, кто сколько сможет. Я сам слышал, как баба евоная во дворе чистила муженька, что даже трактористы на двоих один трактор упрятали, а ты начальник, механик, ржавого болта не принес. А он молчит, но и она не со зла, хотя надо сказать, женщина она резкая, прямая. Да и сама из себя бабочка – есть на что глянуть. Михаил, видно, души в ней не чаял, ну и приносила она в пятилетку по паре ребят. К тому времени у них уж пятеро было.
Жену его Тамарой зовут, по отчеству Ивановна, дело известное, школу кое-как закончила, а тут Мишка из армии объявился, в первую же осень окрутил девку, свадебку изладили, она на ферму дояркой. И ведь зажили. Колхоз, вот хай его – хвали, дом им поставил, правда, и самим пришлось повкалывать, день на колхоз, полночи на дом. Переходить стали, гляжу – не то творят, нарушают всякий обычай и порядок от отцов. В дом следно вперед кошку пускать, а они натопырились малую дочку на порог поставить. И ведь не подскажет никто, то ли позабыли напрочь, то ли на ребенка залюбовались. Оно и правда, шибко славно, когда первенец твой своей ногой в новый дом входит, но без кошки никак! Останавливаю церемонию, перелажу через плетень, свою кошку за пазухой схоронил. Высказался:
– Что же вы, – говорю, – робята, от законов и обычаев отцов и дедов отступаете? Неладно это. Вот вам кошка, пусть дите ее вперед толкнет за порожек, а потом и сама двинется.
Речи-то распеваю, а сам с собой совсем другое говорю негласно: «Дедушко-Суседушко, коли ты пришел к дому, тогда входи хозяином, да знак дай, чтобы я понял, что ты при месте». А сам смотрю да слушаю, и только девочку с кошкой обрядили, колыхнулася занавеска у дверей и половица скрипнула, да так знатко, что сосед засмеялся:
– Прослабил, Михаил, половицу при входе, все нервы вытянет, по ней взад-вперед десятки раз пробежите за день.
Промолчал хозяин, он вообще редко в какие разговоры вступал, только если сам начал. А так спрошу у него что-нибудь, плечами пожмет, либо головой кивнет. Вот и гадай, что он тебе просигналил.
Ладно жить начали, толково, баба его деньгами руководила, никуда копейка не выскользнет. Все у неё рассчитано, что на ребят купить, что мужу и себе тоже. На осень выпросился Михаил у председателя на комбайн, хлеб надурил небывалый, я сам в середине августа хаживал в первые лесочки, где начинались поля со пшеницей. С малых лет учил меня дед Панфила слушать поле. Это, брат, не всякий может, да не каждому оно и надо. Присядешь под ветерок, припухнешь, здышишь легонько, только сердечко и колотится. Вот, подобно тому, ни ветерка, воздух горячий стеной стоит над хлебом, дозреват его, сушит. Пройдет какое-то время, то ли природа тебе поверит, то ли сам ты во все это живое всей душой войдешь, и тогда услышишь, как колос с колосом целуются, перешептываются. И вроде даже зернышки, если в колосе высохли, позванивают. Такая музыка, аж слеза упадет… Взял Михаил комбайн не самый добрый, чтобы мужиков не обижать, но за неделю до болтика перебрал, уплотнители поставил на стыках шнеков, в молотилку, чтобы утечки зерна не было, и в поле. Не знаю, вроде за всю уборку пару раз домой приезжал, в баньке помыться, переодеться да с ребятней повозиться с полчасика. А чуть свет – подходит машина, кончилась медовая ночка.
Сам слышал, сидючи у себя в ограде, как две бабенки-соседки после управы подтянулись к Тамаре, на бревнышках расположились, вздыхают. «Неделю Веня не бывал, ждала в баню, а у него комбайн изломался, вместо бани да чистой постели всю ночь с железом». Вторая ту же тоску выводит: «Гляжу – бегом бежит к дому, у меня ретиво остановилося. А он заскочил в мастерскую, я туда, на шею ему кинулась, он руки-то мои разомкнул, весь обвиноватился: «Вот, за подшипником приехал, у Генки Рамазанки шкив вариатора заклинило». И вся любовь, а я потом до свету уснуть не могла». Тут Тамара вступила: «Чудно все устроено, в девках жили до двадцати лет, и хоть бы хны, если никто не доведет дрожи, а тут неделя прошла, и терпежа нет. Девки, я прошлой ночью ребят уложила, на велик и к полевому стану. Роса уж пала, комбайны заглушили, мужиков машиной привезли. Не пересказать, как своего отыскивала, угадала, что до ветру пошел, выцепила. Ой, девки, он поначалу испугался, думал, дома что, а потом на руки меня и в копну соломы. Утром вышла на ограду: господи, сколько же соломы я с себя вытрясла, как раз свиньям на подстилку». И хохочут все, так добросердечно да радостно, что сами по себе мои младые лета всплыли, сладкой тоской душа окатилась, да и на том спасибочко.
За ту уборку получил Михаил мотоцикл «Урал», за свои деньги, понятно, но право такое надо было заробить. И Тамара его тоже в передовики вышла, правление ей за сохранность всех народившихся телят трех месячных бычков выделило в премию. Видел я, какая радость была в доме. Уместно ли тут признать, что к тому времени остался я бобылем. Жену схоронил последней из семьи, а вперед сына из армии в цинке привезли, второй по пьянке утонул на рыбалке, дочь своей семьей жила, при родах ничего наши коновалы не могли сделать, и ее, и дите уханькали. Так что эта картинка через плетень и была моим светлым местом. Вечером цеплял Михаил тележку к мотоциклу, прежде ребят по улочке прокатит, а потом с Тамарой в лески, двумя литовками вмиг копешку сколотят, в тележке пологом прикроют и веревкой свяжут, чтоб не раздуло. Это телятятишкам на весь день, а остатки на сарай, ветром охватит да солнышко пару раз глянет – сухое сенцо, можно в зиму.
Когда колхоз распустили, гляжу на соседа – другой человек. Он свою работу знал с утра до ночи, а тут никому не нужен. Бывший председатель свою банду сколотил, позвал Михаила Гавриловича вместо инженера, тот радехонек, даже вроде на мордашку повеселел. Посеяли, хозяин стол в поле выставил, по бутылке на брата. Михаил к нему, мол, так и так, вино не пью, ты мне деньгами в счет отработанного. А тот отвечает: «Вот твои деньги, только всходят, как обмолотим да продадим, тогда и карманы дополнительно можно пришивать, озолотимся все». Михаил, ребята сказывали, молча кивнул, сел на мотоцикл и домой.
Первыми доярки шум подняли: почему ни гектара кукурузы на силос не посеяли, трав никаких на сенаж. А дольше и того хуже: травы дуром дурят, а косить никто не собирается. Приперли председателя, он и вылепил: молоко дешевое, себе в убыток, проще под угол слить. Так что коров осенью всех на колбасу. Бабы в голос, а он пал в легковушку и газу.
Мы хоть и рядышком жили, а сообщались реденько, здравствуй и прощай, подобно тому. Какие у меня к нему разговоры? Я водочку уважаю, перед каждым аппетитом, пока старуха жива была, рюмку принимал – он и в праздники в рот не берет. Я табак смолю от самой Сталинградской битвы, теперь на самосад перешел, трубку вырезал из корня вишни, крадчи от бабки сделал заготовку. Потом всю зиму вошкался, ходил в мастерскую, где газовая сварка, соседа же и попросил, чтобы он трубку слабым огнем обработал. Курю. Я балагур, люблю язык почесать, а от него слова не дождешься, выслушал, улыбнулся, кивнул и ушел. Ну, я уж говорил про то.
А парень он был славный. Телом крепок, новой раз специально сяду и любуюсь, как он робит во дворе. Все в руках играт. Рубаху скинет, штаны закатат до колен и гряду навоза за час перекидат, выправит, тряпицей закинет. Тамара выйдет по своим делам из летней кухни, сама в легоньком халатике, считай, все на виду, тазик поставит на полочку в сарае, подойдет к мужу и со спины прижмется. Дело прошлое, по себе знаю, на мужика это зверски действоват. А Михаил развернет свою красавицу, поцелует в шейку и за свои дела. Я так понимаю, что бабочку это обижало, не затем она выходила. Да и орда вся на озере купается. Пошла, и тазик оставила. Ну, это дело семейное, позже разберутся.