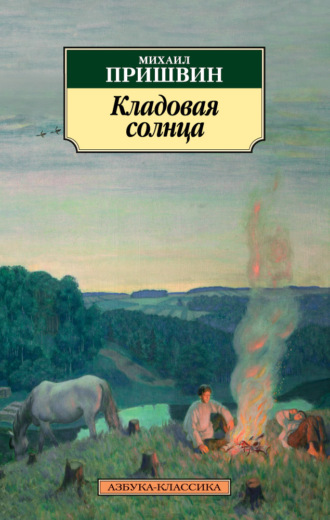
Полная версия
Кладовая солнца
– Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? – спросил батюшка.
– Мы в деревне живем, – конфузливо ответила мать, – в городе никогда не бывал.
– Ну ничего, – заметив смущение матери, сказал батюшка, – всему свое время, а признак хороший – через Царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет.
– Архиерей, архиерей! – засмеялись на клиросе певчие.
И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:
– Архиерей, архиерей!
На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по-другому: ни малиновой дороги, ни огней, ни толпы, и только черные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка стал, подражая старушкам, так же впиваться в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть: все грехи, все тайны. Вот думать про это стало почти непереносимо, – разве можно так вдруг все и открыть, а если что-нибудь забудешь?
– А если забудешь, – спросил он, – Господь покарает?
– Забудешь – ничего, – ответила мать, – а будешь помнить, да утаишь, то покарает.
Но легче не стало от этого: захотеть, – казалось ему, – можно все вспомнить, а можно не захотеть, и будто все забыл; как же тогда быть, – за это покарает Господь, что захотел или не захотел?
– Надо полное раскаянье, – сказала мама.
– С чего же начать?
– Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все: «Грешен, батюшка».
Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:
– Если я не грешен и скажу «грешен, батюшка», за это покарает Господь?
– Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники.
Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала: «Иди», – а потом: «Стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь».
Так было с этим «грешен, батюшка» все хорошо наладилось, и вдруг этот несчастный двугривенный все дело испортил, явилась дума: «Когда отдать его и как отдать, а главное, если надо говорить „грешен“ и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке двугривенный и думать, как его отдать?»
– Веруешь в Бога? – спросил батюшка.
– Грешен! – ответил Курымушка.
Священник будто смешался и повторил:
– В Бога Отца, Сына и Святого Духа?
– Грешен, батюшка!
Священник улыбнулся:
– Неужели ты сомневаешься в существе Божием?
– Грешен, – сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: – Грешен, батюшка, грешен.
Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.
– Грешен, батюшка, грешен!
Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит.
Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это, верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:
– Ну как, все свои тайны открыл?
– И открывать-то нечего было, – победно ответил Курымушка, – он их и так все простил, он добрый.
– И ты отдал двугривенный?
– Нет, не отдал, это не нужно.
– Не взял?
– Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть – все прощается.
– Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.
– Не пойду!
– Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!
Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяснить, даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.
– Ничего, ничего, Бог простит, – ответил батюшка, поглаживая его по голове, – и смотрите еще – он у вас архиереем будет.
На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.
Коровья CмертьБывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второгодником по прозвищу Ахилл. Гигант-второгодник был всем хорош, слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.
– Директора, – сказал он, – ты не бойся – он справедливый латыш! Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты; не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое – к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, – он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться. Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали егоОбезьян. Есть еще надзиратель Заяц, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики Коровья Смерть; тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая – начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.
– Почему же он называется Коровьей Смертью? – спросил Курымушка.
– Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.
– Ты сам – корова?
– Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.
Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.
– Это вызубри, – учил Ахилл, – назубок, тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет – много лишних коров наделает.
«Не подвести бы класс!» – опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и боже сохрани подвести. А что учителя – враги классу, то это само собой понятно. Зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию шел, все твердил: «Сложение есть действие…»
– Хорошо вызубрил? – спросил Ахилл.
– Хорошо.
– Ну-ка!
– Сложение есть действие… – И стал.
– …посредством которого… – подсказал Ахилл.
– Да-да… посредством которого…
– Стой, идет!
– Идет, идет, идет! – прошумело в классе и стихло, как перед грозой.
Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было:Алпатов.
– Тебя, тебя! – шептали вокруг.
– Алпатов здесь?
– Здесь, здесь! – крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.
– Дай тетрадь!
Курымушка подал.
– Что есть сложение?
– Сложение есть действие… – Запнулся.
Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:
– …посредством которого, посредством которого…
– Молчать! – крикнул Коровья Смерть.
Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.
– Долго ли ты будешь молчать?
Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стукалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.
Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят, и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась… и – вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута, – эта левая нога теперь метнулась как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Маточная– помещение для кобыл с маленькими жеребятами. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)
2
Варок– огороженное место для выгула коней.












