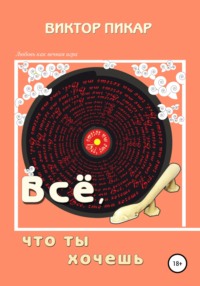Полная версия
Дыхание Луны

Виктор Пикар
Дыхание Луны
Серебристый
Слепая Маша открыла дверь гостиной. Она привстала на цыпочки и потянулась всем телом к окну – было раннее утро, солнечные лучи уже проникли внутрь комнаты и высветили на паркете длинную полосу света, во главе которой стояла она, в темно-синем шелковом халате, – и улыбалась, как всегда, и ничего не видела, но все чувствовала.
Она спросила:
– Почему ты так волнуешься?
Я поцеловал ее в щеку, взял за руку и посадил в кресло, во главе стола.
Она спросила:
– Что сегодня?
Я ответил:
– Все, что случилось с нами, я записал, как одну книгу. Я хочу прочитать тебе этот текст.
Маша не спросила даже, сколько это займет времени. Она сказала:
– Пахнет розами. Какого они цвета?
–Алые!
– Чудесно! И мой любимый шоколадный ликер здесь, я чувствую. И мороженое где-то рядом, с ягодами…
– Конечно! Начнем с малины…
Она послала воздушный поцелуй в мою сторону и сказала:
– Так читай же!
И я начал читать. Она удобно расположилась в кресле, откинув назад голову и прикрыв невидящие глаза, и соглашалась со всем, кивая головой и улыбаясь – лишь иногда она останавливала меня, хлопая в ладоши. Она делала это в том месте текста, где, по ее мнению, нужно было закончить старую главу, и начать новую. Более того, иногда она давала название следующей главе, даже не зная ее содержание.
Она называла ее по цвету, одним словом.
Серый
– Лет до двадцати пяти мне казалось, что я буду жить вечно. Я видел слезы, людскую боль, я видел смерть и старость, но, тем не менее, каким-то, совершенно особенным, чудесным образом был уверен, что все это никоим образом не коснется меня самого. Все проблемы отдельных людей и человечества в целом были лишь картинками на экране телевизора или ноутбука, я же всегда оставался снаружи, наблюдая и контролируя все, недосягаемый и веселый. Конечно же, это была глупость чистой воды – но это работало! Помню, я ничем не болел, был счастлив и радостен, и быстро добивался всего, чего хотел. До определенного момента.
Мой следователь явно перебрал вчера. Он небрит, на нем несвежая рубашка. Глаза красные, воспаленные. Пальцы нервно теребят незажженную сигарету. Таким я его не видел, за все долгое время нашего общения. Он ходит по комнате, из одного угла – в другой. Его голос хриплый и простуженный, его глаза ищут соучастия, и сегодня я бы накинул ему лет пять сверх его тридцати пяти. Он обычный, незащищенный, уязвимый – как все люди на улице.
Я спрашиваю:
– И когда же наступил этот момент?
Он останавливается посреди комнаты, рассеянно смотрит на тусклую лампочку под потолком.
– Не помню.
Он бросает на меня виноватый взгляд.
– Недавно я ехал в поезде, и курил в тамбуре, к черту запреты, а мимо проходила торговка с корзинкой, в которой лежало пиво, сухарики, вода, печенье, и прочая ерунда – я взял себе пакетик арахисовых орешков. Дама что-то бормотала, улыбалась, она была симпатичная – но меня интересовали только орешки, и все. Ее лицо было как-то смазано, затерто. Она была призраком. Даже хуже – приведение заинтересовало бы меня своей потусторонностью, а эта реальная женщина, во всей своей безусловной и призывной, грудастой плоти – никак и ничем. Она была просто пылинкой в воздухе прокуренного поездного тамбура, летящей в никуда.
– И что с того?
Следователь устало садится за свой стол.
– А то, что все лица людей вокруг меня смазались и затерлись. Я не вижу никого вокруг. Я не хочу никого видеть. Словно моя жизнь заканчивается. Мое счастье, моя радость, моя веселость – они стали покидать меня…
– Со всеми это случается… Просто, картинка на экране персонального компьютера потускнела со временем… Всему приходит конец. Все увядает, умирает… Что в этом особенного?
Глядя в окно, он горестно декламирует:
– Здесь можно жить, забыв про календарь,
Глотать свой бром, не выходить наружу
И в зеркало глядеться, как фонарь
Глядится в высыхающую лужу. (Бродский)
Мой следователь, к месту и нет, любит декламировать стихи, особенно – Бродского. Эрудированный, чувствительный человек, мой следователь. И как он вообще попал на эту работу, угнетающую нормальных людей? Он достает зажигалку и прикуривает, жадно затягивается, кивает мне, протягивает сигарету. У него нет ответа на мой вопрос.
– Хочешь?
– С удовольствием.
Мы курим, молча, и вот, когда от сигарет остаются только фильтры, он говорит мне;
– Только твое лицо я вижу ясно и четко. Почему?
Я пожимаю плечами.
Он наклоняется ко мне ближе и спрашивает:
– Ты хоть понимаешь, что проведешь в одиночной камере всю свою жизнь? У нас есть три часа с тобой, потом я вызову охрану, потом наручники, суд, прокурор, тюрьма… Ты будешь рад таракану на стене твоей холодной камеры, как самому дорогому гостю…
Я послушно киваю. Рано говорить ему, что такого не случится никогда.
Он наклоняется еще ближе ко мне:
– Ты знаешь, я смотрю, на тебя, и не верю.
– Во что?
– В то, что человек с такими радостными, веселыми, светящимися глазами – опасный преступник.
Зная о том, что его это взбесит, не могу скрыть очередную радостную улыбку.
– Опять улыбаешься, как школьник?
– Ну и что с того?
Он вскакивает и снова меряет шагами комнату. Проходит минут пять, когда он подходит ко мне, наклоняется и, дыша перегаром, спрашивает:
– Я хочу знать, что произошло с тобой.
Через секунду, он срывается и во весь голос кричит мне:
– Этого просто не может быть!
Он умоляет меня:
– Расскажи мне, как все это началось?
Как все это началось
– Как началось? Очень просто.
Был поздний ноябрьский вечер, еще без снега. Я вышел из дома без шапки, и удивился тому, как низко опустилось небо, на котором не было луны и звезд, только тучи – чернота давила, угнетала. Каждая следующая моя мысль неизменно оказывалась вдвое мучительней и горче предыдущей, причем я даже не задавался вопросом, от чего это было – лишь томился, как последний каторжник от тяжести, приходящей ко мне – со всех сторон, так, что некуда спрятаться, и некуда сбежать.
Было так, что я уже не хотел больше думать о смыслах, искать причины и тайные замыслы, а просто торопился купить хороший виски и пару сигар. Сделав это, я так же точно, бессмысленно и быстро, не замечая других прохожих, торопился назад, в свою пустую квартиру, – но выйдя из лифта, краем глаза заметил, как пожилая женщина прячет в цветочном горшке, стоящем на
подоконнике, между этажами, ключ. Она была так занята своими мыслями, что не обратила никакого внимания на меня, не думающего ни о чем. Вне всякого сомнения, это была одна из домработниц, приходящих в квартиру, напротив моей, к слепой девушке ангельского вида. Ее отец, морской офицер, редко бывал дома, а ее матери я не мог припомнить. Женщина вызвала лифт этажом ниже, а я открыл бутылку виски, сделал пару хороших глотков, закурил сигару и, совершенно машинально, спустился на один лестничный пролет и достал ключ из цветочного горшка. Потом вернулся наверх и, подойдя к соседской двери, сделал еще пару глотков, которые быстро вскружили мне голову. Оттуда слышалась музыка, и мне стало интересно, сидит ли слепая девушка в кресле, или, быть может, танцует одна…
Я обернулся, посмотрел в окно на лестнице – тучи внезапно разошлись, открыв полную луну. В этот момент, я словно сошел с ума. Я еще разок затянулся, быстро затушил сигару о подошву ботинка и легко открыл ключом дверь. Со мной было впервые такое – чтобы я без спроса вторгался на чужую территорию. Со мной было впервые так – чтобы я действовал исключительно по какому-то странному, чужому наитию, словно это был и не я вовсе – не обращая внимания на опасения, осторожность, приличия и всякие прочие мелочи, быстро облачающиеся в тревожные мысли, каждая следующая из которых – вдвое горче и мучительнее предыдущей. Со мной было впервые так – чтобы я вдруг смеялся и над законом, и над условностями этого мира, и над возможным наказанием. Будто кто-то свыше руководил моими поступками, верша судьбу самым странным и неожиданным для меня образом.
Я аккуратно открыл входную дверь. Щелкнул замок. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?», – билась в голове мысль. В прихожей было темно, скрипнул паркет. Пахло апельсинами, которые только что очистили. Дверь в гостиную была полуоткрыта, и я, ступив на полосу электрического света, на паркетном полу, прокрался, осторожно ступая, до входа, и заглянул внутрь, затаив дыхание.
«Что ты делаешь?»
Синий
Огромная белая комната показалась мне пустой – в одном углу диван, в другом – стол и кресло. За огромными арочными окнами стояла луна. В третьем углу я увидел кресло, в котором сидела она. Звучала особенная музыка – она еще больше встревожила мое сердце. Девушка танцевала, не вставая с кресла – одними руками, энергично дирижируя, то молитвенно вознося их к небу, то брезгливо отталкивая от себя мир, то нежно прижимая его к сердцу, как родного и единственного ребенка, то сбрасывая вниз, как ядовитую змею. Ее прекрасные зеленые глаза были широко раскрыты – она смотрела на все и не видела ничего. Ее длинные белокурые локоны были спутаны, ее лицо было прекрасно. Я влюбился в нее – с первого взгляда. Она была в синем шелковом халате, очень коротком, ее ноги были раздвинуты намного шире, чем бы это сделала зрячая женщина, ровно настолько, чтобы я пошел дальше, в комнату, на цыпочках, будто бы подгоняемый в спину ветром. Как самый последний идиот, школьник младших классов, я попытался заглянуть туда, и увидеть – что там? «Что ты делаешь?». Она почувствовала чужого – внезапно нахмурилась, сдвинула ноги и руками стремительно оттолкнула от себя воздух, в такт музыке – прямо на меня – я отпрянул, пораженный и испуганный, к стене. Заскрипел паркет. «Ну вот. И что теперь?». Пятясь, я наткнулся ногами на какой-то табурет, который от столкновения заходил ходуном. Я машинально обернулся – на нем была черная железная труба, размером с велосипедный насос, я схватил ее в руки, чтоб не упала. Сбоку, на шершавом железе, я с удивлением увидел что-то типа затвора, как на автомате Калашникова, и передернул его. Зачем?
– Кто вы? Кто вас приглашал?
Я не успел обернуться – под мое нижнее правое ребро, в спину, вонзилось что-то, жалящее электрическим разрядом. Я упал на пол, намертво удерживая железо трубы – и мир горел синим огнем.
Маша и медведь
Следователь смотрит на меня с интересом.
– И что это было?
– Маша потом рассказала мне, что я вел себя, как медведь – она легко вычислила пришельца. С самого начала, меня выдали посторонние резкие запахи – виски и сигара. Она делала вид, что не почувствовала меня. Когда мои ноги споткнулись о табурет, она стремительно, не теряя ни секунды, как учил ее отец, принеслась в то место, где должно было быть мое тело, и ужалила, наугад, электрошокером. Как оказалось, точно. Главным в этой истории является то, что несколькими секундами ранее я привел в действие прибор, из каких-то там джунглей на островах. Отец Маши, морской офицер, получил его от своего отца, деда Маши, а тот – у умирающего хранителя древнего рода, как диковинный сувенир. Случайно, оставил на табурете, у стены, в гостиной – он так и не понял, что это такое и зачем нужно. Позже, мы стали называть его «объединитель» – скоро вы поймете, почему. Электрический разряд вкупе с активизированным прибором приводил к тому, что два человека, оказавшиеся рядом, становились одним человеком.
– Что ты сказал?
Следователь, разумеется, не понял. Я смакую этот момент, растягиваю удовольствие.
– Два человека становились одним.
Повторяю, как ни в чем не бывало.
– Одним?
Он морщит лоб. Потом кривится, недоверчиво.
– Как это – одним?
– Так это.
– Да ладно!
– Конечно, речь не идет о телах – каждый оставался в своем теле. Но ведь и человек – это нечто большее, чем физическое тело.
– Поясни.
– Человек – это желания. Каждый из нас является тем, что он хочет.
– Допустим.
Следователь смотрит на меня как-то странно. Так странно, что я думаю о том, как не переборщить.
– Когда я очнулся там, на полу гостиной, Маша сидела рядом, прямо на паркете, вытянув свои прекрасные ноги в белых вязаных носочках, и гладила меня по голове, как любимую собачку, обоими руками, зарываясь пальцами в моих волосах. Она уже ощущала это, а я – еще нет.
Я делаю многозначительную паузу, но вижу, что его это раздражает.
И тогда я говорю главное:
– Она чувствовала мои желания как свои собственные. Как будто я – это она, только в мужском исполнении.
Брови следователя ползут вверх от удивления.
– А ты?
– А я, как только очнулся, ощутил ее желания, как мои. Как будто она – это я сам, только в женском облике.
Он молчит, смотрит на меня расстроено, его лицо кислое как лимон, он достает сигаретку, крутит ее между пальцев:
– Зачем ты так шутишь? Зачем так нелепо дуришь меня?
Я пожимаю плечами.
– Ты сам просил рассказать, как все было на самом деле.
Он отходит к окну, встает ко мне спиной, молчит еще дольше – минуты три, думает. Не оборачиваясь, тихо бормочет, сам себе:
– Я дважды пробуждался этой ночью
И брел к окну, и фонари в окне,
Обрывок фразы, сказанной во сне,
Сводя на нет, подобно многоточью,
Не приносили утешенья мне. (Бродский)
Через пару минут он спрашивает:
– Ты читал ее мысли? А она знала, о чем думаешь ты? Так, что ли?
Я радуюсь тому, как он продвинулся в своих выяснениях.
– Мысли – обратная сторона желаний. Когда человек хочет чего-то, он потом думает, как это сделать, как добиться желаемого. Но сначала – желания, потом уже мысли. А некоторые желания даже не оформлены мыслями – например, вы хотите спать, и спите – а мысли только мешают. А во время оргазма – думаете ли вы о чем-либо? Ум полезен тогда, когда старые радости приелись, и нужно искать нечто новое, – тогда он и раскидывает свою паутину, как паук, в поиске новых жертв, новых удовольствий, новой пищи.
– А короче?
– Мы чувствовали то, что хочет каждый, напрямую. Желания – это огонь, а мысли – дым вокруг него. Если мы видели возможность еще больших наслаждений, то немедленно сплетались мыслями, как стволы деревьев в джунглях, в намерении как можно быстрее реализовать их.
– А еще короче?
– Глупо заниматься чтением мыслей, если есть наслаждение в тысячу раз большее.
Он смотрит на меня, и не понимает.
– Ладно, проехали. И что вы делали потом?
– Просто исполняли желания друг друга, все подряд, любые, как свои собственные, и наслаждались этим сверх всякой меры, целый месяц, самый сказочный и счастливый месяц в нашей жизни, пока не вернулся ее отец.
Он не выдерживает:
– Так в чем наслаждение-то? Я и так могу радовать себя самого. Зачем нужен еще кто-то, с его желаниями?
Изумрудный
Я вздыхаю. Так быстро, мы подошли к главной проблеме мироздания. Ну, что ж, придется коснуться и ее тоже.
– Очень просто. Ты себя любишь?
Он смеется.
– Думаю, что да.
– Замечательно. Так вот – этот древний прибор чудесным образом объединяет тебя с другим человеком, ты чувствуешь его, как себя самого, и любишь так же, как себя. Понятно?
– Допустим.
– Так вот. Когда любишь кого-то, как себя самого, и его желания становятся для тебя, как твои собственные, и ты даешь ему то, что он хочет, – наслаждаешься гораздо больше, чем когда даешь самому себе.
Он задумывается.
Я продолжаю:
– Ты любил женщину?
– Да, наверное. В школе было кое-что.
– Вспомни эти чудесные дни первой влюбленности, когда ты, забывая себя самого, делал лишь то, что она хочет, и был счастлив. Ей нравилось, когда ты провожал ее до дома, неся ее портфель? Ты делал это, радуя ее, и был несказанно доволен. Она любила желтые герберы? Ты готов был дарить их каждый день. Она, наверное, любила слушать, как ты декламируешь стихи? Ты тараторил, без умолку, получая неземное удовольствие от того, как она наслаждается твоим вниманием. Она любила, когда ты слушаешь ее, все девушки это любят, и ты часами мог просто быть рядом с ней, внимая ее рассказам, успехам и горестям, смакуя ее голос, купаясь в море ее простой, незатейливой радости. Ей нравилось бродить по полю, собирая васильки и ромашки? Ты никогда не сделал бы это сам для себя – глупо, но, ради нее, наслаждаясь ее маленькому счастью, ты готов был делать это часами. Она любила фильмы про любовь? Ты никогда не смотрел бы подобную сентиментальную ерунду, но ради нее, вместе с ней – это было волнительно и прекрасно. У тебя было немного денег, но ты готов был потратить их все – на нее, даря ей нелепые подарки, угощая ее любимыми тортами и мороженым. Это было волшебное, незабываемое сумасшествие, согласись. Ты забывал о своих желаниях, для тебя существовала только она и то, что она хочет, и ты бросался в нее, как в омут, с головой, потому что ты любил ее, а когда любишь и делаешь что-то для любимой – радуешься несравненно больше, чем когда делаешь что-то для себя.
Он кивает, в знак согласия.
Я перевожу дух, и спрашиваю:
– У тебя есть дети?
Он смотрит на меня с интересом.
– Да. Мальчик, трех лет.
– Ты любишь его?
– Ну конечно! Замечательный ребенок.
– Прекрасно! Например, ты играешь с ним в мяч, на солнечной полянке. Он бьет его ногами, мяч катится, он бежит за ним, смеется и радуется. Ты идешь за ним, он берет мяч в руки, неловко бросает тебе, ты ловишь его и нежно кладешь ему в руки, он хохочет так, что сердце твое тает, и ты готов заниматься этим несерьезным занятием еще и еще. Мыслимо ли, чтобы ты занимался этим сам с собой, с таким же удовольствием? А когда он просит тебя почитать ему на ночь книжку, и садится к тебе на колени, и водит пальцем по картинкам, и смешно бормочет – нет для тебя занятия, приносящего большую радость, чем это, разве не так? И его желания для тебя – как свои, потому что ты любишь его. И когда ты делаешь что-то для любимого сына, радуешься гораздо больше, чем когда делаешь что-то для себя – иначе не делал бы. Так?
– Ну…
– Именно так! Понаблюдаем за молодыми мамочками, обожающими своих деток. Они просто живут внутри них, и все! Они хотят – мама тут как тут – и дает им все, что нужно, и счастью ее нет предела. Дитя хочет еще – она ждет только этого, о радость! Даруя ему то, что он хочет, она будто бы дает себе самой – вот счастье и секрет жизни и вечного наслаждения – так просто и так ясно!
Он внимательно слушает.
Я говорю ему:
– Есть одна проблема. Сумасшедшая влюбленность к девушке быстро проходит, и ты смотришь на нее, и не понимаешь, как такое вообще могло случиться с тобой. Дети растут, они капризны, порой просто невыносимы. Эта радость – она непостоянная. Так ведь?
– Так.
– И что остается? Наслаждать себя самого?
Черный
– Тоже неплохо, – замечает он.
Следователь садится за стол, подпирает руками подбородок, и в упор разглядывает меня своими красными, воспаленными глазами.
Я говорю ему:
– Да, но люди давно уже заметили – внутри человека есть огромная черная дыра. В нее он бросает все, что имеет. Наслаждения от сна, вкусной еды, секса. Счастье творчества, созидания, впечатления от власти, богатства, денег, влияния, управления. Озарения от новых научных и философских идей, интеллектуальные прозрения. Все это он бросает в черную, разверзшуюся дыру желания иметь вечное, непрерывное наслаждение, не обусловленное ничем, как в пропасть – и там исчезает, гибнет все – результатом является еще большая пустота, большая алчность, большая потребность, бесконечное нетерпение, невероятное отчаяние и воистину вселенская грусть. Так ведь?
Следователь смущенно копается в себе, как в гардеробе, и изрекает.
– Мы уходим во тьму, где светить нам нечем. Мы спускаем флаги и жжем бумаги. Дайте нам припасть напоследок к фляге. (Бродский)
– Мы, люди, живем не осознанно – в этом проблема. Только что, вы хотели вкусный вишневый торт, и съели его весь, с немалым удовольствием, и что? Пустота! Вам нужно искать в себе новое желание, и думать о том, как реализовать его, в этом сумбурном, меняющемся мире. Вы нашли его – секс с вашей подружкой, которую вы вряд ли уже любите так, как в первый месяц знакомства. Вы ехали к ней через весь город, купили вино и цветы, и сделали то, что хотели, и что? Пустота, вдвое большая, чем прежде. Как сомнамбула, вы сидите у нее в гостях, не обращая никакого внимания на ее лепет, перед телевизором, и щелкаете каналами, не останавливаясь ни на чем. Потом встаете, уходите, не прощаясь, и снова – поиск, погоня за новым миражем..
– К чему вы клоните? Любовь мимолетна. Внутри каждого человека – черная дыра. И что? Живем ведь как-то…
У него жалкий вид.
Я делаю театральную паузу и торжественно заявляю:
– Дело в том, что есть любовь, которая выше действия гормонов и времени.
– Да ну?
Следователь погрустнел.
– Я понимаю что-то, но – не очень.
– Тогда, когда мы с Машей еще были вместе, я знал все ее желания, и принимал их, как свои, чтобы реализовать их, а она брала все мои, чтобы исполнить их, к обоюдной радости. И тогда мы вместе чувствовали наши желания и наполняли друг друга – она меня, а я ее. И не было никаких ограничений для нас, и сдерживающих правил, и черная дыра тяжелого и мучительного «Я» каждого из нас исчезала навсегда, и мы вливались в поток вечности и бесконечности, и все, что мы искали – а что еще хочет другой? Я думал только о том, что хочет она, чтобы я, так любящий ее, исполнил это. А она искала только того, что хочу я, чтобы она, так любящая меня – без всяких границ и пределов, осуществила во мне свою мечту – наполнить меня неземным наслаждением.
Я замечаю, что он начинает нервничать. Он требует:
– Все это выглядит красиво, но нужны примеры, конкретные и ясные. Это возможно?
– Легко.
Зеркальный
– Очень просто. Ее главным желанием было – не быть одной. И я остался у Маши и жил с ней – и днем, и ночью был рядом. Домохозяйка приходила через день, по вечерам, наводила порядок, и я отдал ей приличные деньги, чтобы она не выдала меня ее отцу. Я читал Маше книги – она любила слушать, Жюля Верна, все эти путешествия и приключения, и пространные рассуждения героев, и добротное и неторопливое развитие сюжета. Как будто бы самому себе читал, как будто сам любил подобного рода чтиво. Я танцевал с Машей под ее любимую музыку, по простому, нежно обнимая ее за талию, часами, чувствуя ее благодарный трепет – как будто с самим собой танцевал. Я покупал Маше ее любимое мороженое, с ягодами, и кормил ее с ложечки – и сам смаковал, более чем она, эти вкусы. Я узнал, что она ослепла в возрасте пяти лет, после болезни. Иногда она подводила меня, за руку, к окну, и я рассказывал ей то, что вижу там. Дома, дорога, прохожие, машины, деревья, детская площадка, играющие малыши… Все эти простые вещи, пропущенные через ее сознание, становились сказочными, сияющими, моими собственными неземными откровениями. В тот момент, когда я понял, что Машу больше интересуют мои желания, чем ее собственные, я смутился, поскольку все, что я хотел – это секс, секс, и еще раз секс, в разных формах, в разных позах, в разных проявлениях… а она, насколько я понял, была девственницей..
В этом месте моего повествования, следователь закурил следующую сигарету.
– Продолжайте, продолжайте!
И я продолжил.
– Такого секса я не имел никогда и ни с кем. Красавица, девственница, слепая молодая девушка удовлетворяла, как свои, все мои сексуальные желания, даже самые похотливые, самые запретные, самые неоднозначные, радуясь этому необыкновенно, улыбаясь и светясь от счастья, и требуя еще и еще, новых и новых моих фантазий. Помню, я чуть не умер от счастья.
Глаза следователя округляются, он слушает меня, раскрыв рот.
Не без удовольствия, я продолжаю:
– Но я получал не одно, а несколько наслаждений.
– Ну и?
– Во-первых, я получал прямое сексуальное наслаждение, оно – самое маленькое из всех далее следующих. Это – раз.
Делаю паузу.
– Ну и? Что есть большее того?
– Во-вторых, я ощущал, что Маша несказанно радуется, исполняя каждое мое желание. Оно для нее – как ее собственное. Я для нее – даже больше, чем любимый ребенок. Я для нее – как она сама, только находящаяся в другом теле. Я понимал, что она балдеет, она тащится, она – на седьмом небе от счастья, делая то, что я хочу, для меня. И она была во мне, мои желания – ее собственные. И я с благодарностью принимал ее любовь, ее подарки, ее неловкий девичий секс, который она мне давала, и собственный оргазм, предназначенный для нее. Я знал, что она получает огромное удовольствие от этого, гораздо большее, чем я сам. Именно оно, это ее удовольствие – самое важное для меня, самое большое и значимое, самое радостное – ведь я люблю ее, больше всего на свете. Я радовался тому, что она счастлива. Я радовался тому, что доставил ей этот восторг – любить другого, не пропадая в «черной дыре» своих собственных иллюзий. Я радовался тому, что стал причиной счастья любимого человека. Это два.