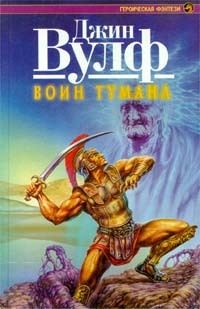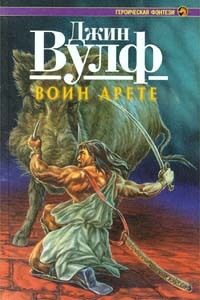Полная версия
Тень и Коготь
Зимой я навещал некрополь лишь изредка, но с приходом весны этот мавзолей и его окрестности неизменно служили мне местом для наблюдений и отдыха в тишине. Дротт, Рох и Эата тоже приходили в некрополь, но своего излюбленного убежища я не показывал им никогда, а у них, как и у меня, также имелись свои потайные убежища. Собираясь вместе, мы вообще редко лазали по склепам. Мы сражались на мечах из веток, швырялись шишками в солдат, играли в «веревочку», в «мясо» или – при помощи разноцветных камешков – в шашки, вычертив доску на холмике свежей могилы.
Так развлекались мы в лабиринте некрополя, также принадлежавшем Цитадели, а иногда еще плавали в огромном резервуаре у Колокольной Башни. Конечно, там, под толстым каменным сводом, нависавшим над темной, бесконечно глубокой водой, было сыро и холодно даже летом. Однако в резервуаре можно было купаться даже зимой, да вдобавок купанье это обладало одним преимуществом – главным, неоспоримым, решающим: оно было запрещено. Как упоительно было прокрадываться к резервуару и не зажигать факелов, пока за нами не захлопнется тяжелая крышка люка! Как плясали наши тени на отсыревших камнях, когда пламя охватывало просмоленную паклю!
Как я уже говорил, другим местом для купанья был Гьёлль, огромной, усталой змеей проползавший сквозь Несс. С наступлением теплых дней ученики компаниями шли купаться через некрополь мимо высоких старых гробниц под стеной Цитадели, мимо исполненных тщеславия последних прибежищ оптиматов, сквозь каменные заросли обычных памятников (минуя дородных стражей, опиравшихся на древки копий, мы старались изображать высшую степень почтения) и, наконец, через россыпи простых, смываемых первым же ливнем земляных холмиков, под коими покоятся нищие.
У нижнего края некрополя находились те самые железные ворота – их я уже описывал. Именно сквозь них прибывали тела, подлежащие захоронению в могилах для бедных. Минуя ржавые решетчатые створы ворот, мы начинали чувствовать, что в самом деле вышли за пределы Цитадели и, безусловно, нарушили правила, ограничивавшие нашу свободу перемещений. Мы были уверены (или, по крайней мере, делали вид, будто уверены), что старшие братья подвергнут нас пыткам, если проступок откроется. На самом же деле нас ожидала в худшем случае порка – такова доброта палачей, которых я впоследствии предал.
Гораздо опаснее были для нас обитатели многоэтажных жилых домов, тянувшихся вдоль грязной улицы, которой мы шли на реку. Порой мне думается, что гильдия просуществовала столь долго лишь потому, что служила средоточием людской ненависти, отвлекая ее от Автарха, от экзультантов, от армии и даже – в известной, разумеется, мере – от бледнокожих какогенов, порой прибывавших на Урд с дальних звезд.
Обитатели жилых кварталов обладали тем же чутьем, что и стражи, и тоже частенько догадывались, кто мы такие. Порой из окон на нас выплескивали помои, а уж гневный ропот сопровождал нас на каждом шагу… однако страх, породивший эту ненависть, служил нам защитой. Никто никогда всерьез не нападал на нас, а раз или два, когда на милость гильдии отдавали тирана-вильдграфа или продажного парламентария, на нас лавиной рушились пожелания (большей частью непристойные либо невыполнимые) по поводу того, как с ним надлежит обойтись.
В том месте, где мы купались, естественных берегов не было уже много сотен лет – два чейна воды, заросшей голубыми ненюфарами, были надежно заперты меж каменных стен набережной. С набережной в воду спускались около десятка лестниц, к которым должны были причаливать лодки, и в солнечные дни каждый пролет был занят компанией из десяти-пятнадцати шумных, драчливых юнцов. Нам четверым не хватало сил, чтобы отбить себе пролет у такой компании, но и избавиться от нашего присутствия они не могли (по крайней мере, ни разу не попробовали), хотя, завидев нас, начинали грозить расправой, а стоило нам устроиться возле, принимались дразниться.
Вскоре, однако ж, все они уходили прочь, и набережная оставалась в нашем распоряжении до следующего купального дня.
Я предпочел описать все это сейчас, так как после спасения Водала купаться ни разу больше не ходил. Дротт с Рохом думали, что я просто боюсь снова оказаться перед запертыми воротами. А вот Эата, пожалуй, понимал истинную причину: в мальчишках, готовых вот-вот стать мужчинами, порой просыпается прямо-таки женское чутье. Все дело было в них, в ненюфарах.
Некрополь никогда не казался мне обителью смерти; я знал, что кусты пурпурных роз, к которым люди питают такое отвращение, служат убежищем для многих сотен птиц и мелких зверьков. Экзекуции, которые я наблюдал и в которых столько раз принимал участие, были для меня не более чем ремеслом, обычной мясницкой работой (вот только люди зачастую куда менее невинны и ценны, чем скот). Когда я думаю о смерти – своей ли, кого-либо из тех, кто был добр ко мне, или даже о смерти нашего солнца, – перед мысленным взором моим появляется образ ненюфар с бледными, лоснящимися листьями, лазоревыми лепестками и черными, тонкими, прочными, словно волос, корнями, уходящими вниз, в темные, холодные глубины вод.
По молодости лет мы об этих цветах никогда не задумывались. Плескались среди них, плавали, раздвигая их в стороны и не обращая на них ни малейшего внимания. Вдобавок аромат их хоть как-то перебивал мерзкие, гнилостные испарения реки…
В тот день, перед тем как спасти Водала, я нырнул в самую гущу цветов, как делал до того тысячи раз.
Нырнул… и не смог вынырнуть. Меня угораздило попасть в такое место, где гуща корней была гораздо плотнее, чем где-либо еще. Я словно оказался пойман сразу в сотню сетей! Я открыл глаза, но ничего не увидел перед собою, кроме густой, черной паутины корней. Я хотел было всплыть – но тело оставалось на месте, среди миллионов тонких черных нитей, как лихорадочно руки и ноги ни загребали воду. Сжав пучок корней в горсти, я рванул их – и разорвал, но и это не помогло обрести подвижность. Казалось, легкие распухли так, что закупорили горло и вот-вот задушат меня, а после – разорвутся на части. Мной овладело непреодолимое желание вдохнуть, втянуть в себя темную, холодную воду.
Я перестал понимать, где поверхность воды, и сама вода не воспринималась больше как таковая. Силы оставили меня, и страх исчез, хотя я сознавал, что умираю или даже уже мертв. В ушах загремел раздражающий звон – и перед глазами возник мастер Мальрубий, умерший несколько лет назад. Он будил нас, колотя ложкой по металлической спинке койки – вот откуда взялся этот звон! Я лежал в койке, не в силах подняться, хотя все прочие – Дротт, Рох и ученики помладше были уже на ногах, зевали спросонья и одевались, путаясь в рукавах и штанинах. Мантия мастера Мальрубия была распахнута, открывая обвисшую кожу на груди и животе (и жир, и мускулы давным-давно съело время). Я хотел было сказать ему, что уже проснулся, но не смог издать ни звука. Мастер Мальрубий двинулся вдоль ряда коек, колотя ложкой по спинкам, и через какое-то время, показавшееся мне целой вечностью, достиг амбразуры, остановился и выглянул наружу. Я понял: он высматривает на Старом Подворье меня.
Однако взгляд его никак не мог меня отыскать: я был в одной из камер под пыточной комнатой, лежал на спине и смотрел в серый потолок. Где-то плакала женщина, но я не видел ее, а женские рыдания вытеснял из сознания звон – звон ложки о металлическую спинку койки. Тьма сомкнулась над головой, во тьме появилось лицо женщины – огромное, точно зеленый лик луны в ночном небе, но плакала не она: я все еще слышал рыдания, а безмятежное лицо этой женщины было исполнено той красоты, что не приемлет вовсе никаких выражений. Руки ее потянулись ко мне, и я тут же превратился в едва оперившегося птенца, которого год назад вытащил из гнезда в надежде приручить – ладони женщины превосходили размерами гробы из моего потайного мавзолея, в которых я иногда отдыхал. Огромные руки схватили меня, подняли и тут же швырнули вниз, прочь от ее лица и от звуков рыданий, в непроглядную темноту. Достигнув чего-то, на ощупь показавшегося донным илом, я вырвался наружу, в мир света, окаймленного черным.
Дышать я по-прежнему не мог, да и не хотел, и грудь не желала, как обычно, вздыматься сама по себе. Сам не понимая, каким образом (позже выяснилось, что это Дротт тащил меня за волосы), я заскользил по воде и оказался на холодных, скользких камнях, а Дротт с Рохом по очереди принялись вдувать воздух мне в рот. Глаза их мелькали передо мной, точно узоры в окошке калейдоскопа. Глаза Эаты – их было очень уж много – я отнес на счет неполадок в собственном зрении.
В конце концов я отпихнул Роха и изверг из себя огромное количество черной воды. После этого мне полегчало. Я сумел сесть и начал понемногу дышать; смог даже пошевелить слабыми, дрожащими руками. Глаза, окружавшие меня, принадлежали вполне настоящим людям, жителям примыкавших к набережной домов. Какая-то женщина подала мне чашку чего-то – чай это был или бульон, разобрать я не смог. Питье оказалось обжигающе горячим, слегка соленым и припахивающим дымом. Поднесши чашку ко рту, я почувствовал легкий ожог на губах и на языке.
– Ты уж не утопиться ли хотел? – спросил Дротт. – И как только выплыть смог?!
Я покачал головой.
– Так и вылетел из воды! – сказали из толпы.
Рох подхватил едва не оброненную мной чашку.
– Мы-то думали, ты где-то вынырнул и прячешься! Чтобы над нами подшутить…
– Я видел Мальрубия.
Какой-то старик – судя по заляпанной смолой одежде, лодочник – вдруг схватил Роха за плечо:
– Мальрубий? Это кто такой будет?
– Был мастером учеников. Он давно умер.
– То есть не женщина?
Старик держал за плечо Роха, но взгляд его был устремлен на меня.
– Нет, нет, – ответил Рох. – У нас в гильдии женщин нет.
Несмотря на горячее питье и теплый солнечный день, я ужасно замерз. Один из мальчишек, с которыми мы дрались когда-то, принес откуда-то насквозь пропыленное одеяло, и я закутался в него поплотней, но встать и пойти все равно смог очень не скоро. Когда мы добрались до ворот некрополя, от изваяния Ночи, венчавшего караван-сарай на противоположном берегу, остался лишь крохотный черный штришок на фоне пламенеющего заката, а ворота были закрыты и заперты на замок.
III
Лик Автарха
Взглянуть на монету, данную Водалом, мне пришло в голову только средь утра следующего дня. Как обычно, мы, обслужив подмастерьев в трапезной, позавтракали сами, встретились в классе с мастером Палемоном и после краткой предварительной лекции последовали за ним в нижние этажи – наблюдать за работой, начатой прошедшей ночью.
Но здесь, прежде чем писать дальше, наверное, стоит подробнее рассказать об устройстве нашей Башни Матачинов. Фасад ее выходит на западную, заднюю сторону Цитадели. На первом этаже расположены кабинеты наших мастеров – там они проводят консультации с представителями юстиции и главами других гильдий. Над ними, этажом выше, находится общая комната, дальней стеной примыкающая к кухне. Еще выше – трапезная, служащая нам не только местом приема пищи, но и залом для собраний. Над трапезной – личные каюты мастеров, которых в лучшие для гильдии времена было гораздо больше. Этажом выше – каюты подмастерьев, над ними – дормиторий учеников и классная комната, мансарды и анфилады заброшенных кабинетов, а на самом верху – орудийный отсек: то, что там осталось, членам гильдии полагается обслуживать в случае нападения противника на Цитадель.
Внизу, под всем этим, находятся рабочие помещения гильдии. Сразу под землей – комната для допросов, а под ней – то есть уже вне башни, ведь комната для допросов изначально была реактивным соплом – тянутся вниз на три этажа (прочие этажи давно не используются) лабиринты темниц, соединенные центральной лестницей. Камеры непритязательны, сухи и чисты, каждая снабжена столиком, креслом и узкой кроватью, которая жестко крепится к полу в центре помещения.
Светильники в темницах – из тех, древних, которые, говорят, должны гореть вечно, хотя некоторые уже погасли. В то утро сумрак подземных коридоров вовсе не омрачал моего настроения – наоборот, наполнял сердце радостью: ведь именно здесь я, став подмастерьем, буду работать, совершенствовать древнее искусство нашей гильдии, возвышусь до звания гильдейского мастера и заложу фундамент для реставрации ее былой славы. Казалось, сам воздух коридоров окутывает меня, словно одеяло, согретое у чистого, бездымного огня.
Все мы остановились перед дверью одной из камер, и дежурный подмастерье заскрежетал ключом в замке. Клиентка, содержавшаяся внутри, подняла голову и широко раскрыла темные глаза. Вероятно, ее напугала бархатная маска и черная мантия, в которые, согласно рангу, был облачен мастер Палемон, а может, массивное оптическое устройство, без которого он почти ничего не видел. При виде нас она не проронила ни слова, а заговаривать с ней никому из учеников, уж конечно, даже в голову бы не пришло.
– Здесь, – начал мастер Палемон в своей обычной суховатой манере, – мы имеем нечто выходящее за рамки стандартных юридических приговоров и хорошо иллюстрирующее возможности новейшей техники. Прошедшей ночью клиентка была подвергнута допросу – возможно, некоторые из вас имели возможность ее слышать. Двадцать минимов тинктуры были даны клиентке до начала процедуры и десять – по окончании. Доза лишь частично предотвратила шок и потерю сознания, вследствие чего процедура была прервана, – тут он подал знак Дротту, и тот начал разбинтовывать ногу клиентки, – как вы можете видеть, после удаления кожи с правой ноги.
– Полусапог? – спросил Рох.
– Нет, сапог полностью. Клиентка из служанок, чью кожу мастер Гюрло находит до чрезвычайности прочной, и данный опыт наглядно доказал его правоту. Смотрите: простое циркулярное рассечение под коленом, край зафиксирован восемью скобками, а засим тщательный труд мастера Гюрло, Одона, Мины и Эйгиля позволил удалить кожу от колена до кончиков пальцев без дальнейшего применения ножа.
Мы собрались вокруг Дротта. Мальчишки помладше принялись толкаться, делая вид, будто знают, на что именно нужно смотреть. Артерии и главные кровеносные сосуды остались неповрежденными, наблюдалось лишь незначительное общее кровотечение. Я помог Дротту сделать перевязку.
Мы уже двинулись к выходу, но женщина вдруг заговорила:
– Я не знаю! Ох, неужто вы думаете, что я не сказала бы, кабы знала? Она убежала с этим Водалом-из-Леса, а куда – я не знаю!
Снаружи я, прикинувшись полным невеждой, спросил у мастера Палемона, кто такой этот Водал-из-Леса.
– Сколько раз я объяснял, что ни одно слово, сказанное клиентом во время допроса, не должно достигнуть твоих ушей?
– Много раз, мастер.
– И, видимо, попусту. Не за горами день возложения масок, Дротт с Рохом сделаются подмастерьями, а ты – капитаном учеников. Именно в таком духе ты будешь наставлять мальчишек?
– Нет, мастер.
Поймав многозначительный взгляд Дротта, стоявшего за спиной мастера Палемона, я понял: он знает, кто такой Водал, и объяснит мне, как только выдастся удобный момент.
– Некогда подмастерьев нашей гильдии лишали слуха. Быть может, ты хочешь вернуть те дни, Севериан? И не держи руки в карманах, разговаривая с мастером.
Я нарочно сунул руки в карманы, чтобы отвлечь его гнев, но теперь, выполняя приказ, нащупал монету, врученную мне Водалом накануне. Страх, пережитый в схватке, совсем было вытеснил ее из памяти, а вот теперь мне вдруг до судорог захотелось взглянуть на нее – но мастер Палемон, поблескивая линзами, не сводил с меня глаз.
– Когда клиент говорит, ты, Севериан, не должен слышать ни единого слова. Представь себе, будто перед тобой мышь, чей писк не имеет для людей ни малейшего смысла.
Я сощурил глаза, показывая, что изо всех сил стараюсь представить себе эту мышь.
От жгучего желания взглянуть на тоненький металлический диск, который сжимал в кулаке, я не мог избавиться на всем протяжении долгого, утомительного подъема в классную комнату, но тогда монету непременно увидел бы шедший позади Евсигний, один из самых младших учеников. В классе, где мастер Палемон монотонно читал урок над трупом десятидневной давности, монета привлекла бы всеобщее внимание еще вернее, и вынуть ее из кармана я не осмелился.
Удобный момент выдался лишь к вечеру, когда я спрятался в развалинах стены среди сверкающих на солнце мхов. Некоторое время я не решался разжать подставленный под солнечный луч кулак – боялся, как бы разочарование не оказалось мне не по силам.
Нет, ценность монеты была для меня не так уж важна. Хоть я и стал взрослым, денег у меня было столь мало, что любая монетка сошла бы за улыбку фортуны. Скорее, все дело было в том, что монета, которая вот-вот утратит всю свою таинственность, была единственным звеном, связывавшим меня с прошлой ночью, единственной нитью, ведущей к Водалу, прекрасной женщине в плаще с капюшоном и толстяку, на которого я налетел в темноте, единственным трофеем, вынесенным из схватки на краю разверстой могилы. Другой жизни, кроме гильдейской, я прежде не знал, и теперь она, в сравнении с блеском клинка экзультанта и раскатистым эхом выстрела среди надгробий, казалась мне такой же серой, как моя рваная рубаха.
И все это могло исчезнуть в один миг, стоило лишь разжать кулак!
Наконец, испив сладкий ужас до последней капли, я взглянул на монету. Та оказалась золотым хризосом. Я тут же сомкнул пальцы, боясь, что ошибся и принял за золото медный орихальк, и подождал, пока не наберусь храбрости разжать кулак снова.
Впервые в жизни я держал в руках золото. Орихальки видел во множестве, а несколькими даже владел сам. Раз или два попадался мне на глаза серебряный азими. А вот о существовании хризосов я только знал, причем знание это было так же туманно, как и знание о существовании мира за пределами нашего города Несса и о других континентах на севере, востоке и западе.
На том хризосе, который я держал в горсти, было изображено лицо, как мне показалось, женщины – увенчанной короной, ни молодой, ни старой, безмолвной, безупречно прекрасной в цитриново-желтом металле. Наконец я повернул свое сокровище другой стороной, и тут у меня взаправду перехватило дух. На реверсе был вычеканен крылатый корабль – тот самый, с герба над дверью моего потайного мавзолея! Вот это лежало за гранью каких бы то ни было объяснений – настолько, что я в тот момент не стал даже строить никаких догадок, будучи вполне уверен в бесплодности любых умопостроений. Поэтому я просто сунул монету обратно в карман и в некоторой прострации отправился назад, к своим товарищам-ученикам.
О том, чтобы держать монету при себе, не могло быть и речи. При первой же возможности я удрал в некрополь один и тщательно обыскал мой мавзолей. Погода в тот день изменилась, к мавзолею пришлось пробираться сквозь мокрый кустарник и высокие жухлые травы, начавшие клониться к земле в предчувствии зимы. Убежище мое не было больше прохладной, уютной пещеркой; оно превратилось в ледяную яму, внушавшую явственное ощущение близости врагов, противников Водала: ведь им, без сомнения, уже известно, что я присягнул ему на верность. Стоит мне войти внутрь, враги выскочат из засады, захлопнут дверь, висящую на новых, загодя смазанных петлях, и… Конечно, я понимал, что все это – чепуха, но в чепухе той имелась и толика истины. Я чувствовал близость тех времен, когда (через несколько месяцев, а может, несколько лет) враги эти вправду начнут на меня охоту, и мне придется поднять выбранный для боя топор… а ведь палачи в подобное положение, как правило, не попадают.
В полу, у самого подножия бронзового саркофага, обнаружился расшатанный камень. Под него я и спрятал свой хризос, а после прошептал заклинание, которому меня много лет назад выучил Рох, – несколько рифмованных строк, якобы обеспечивавших сохранность спрятанного:
Здесь лежи. Кто ни придет,Стань прозрачен, будто лед;Взгляд чужой да не падетНа тебя.Здесь лежи, не уходи,Избегай чужой руки,Пусть дивятся чужаки,Но не я.Чтобы заклятие в самом деле подействовало, следовало обойти место клада в полночь, держа в руке пойманный блуждающий огонек, но тут я вспомнил Дроттовы выдумки насчет собирания трав на могилах в полночь, рассмеялся и решил положиться только на стишок, хотя был поражен тем, что достаточно повзрослел, чтобы не стесняться подобных вещей.
Шли дни, но впечатления от похода к мавзолею оставались достаточно яркими, чтобы удержать меня от попыток наведаться туда еще раз и проверить, на месте ли мое сокровище, как бы порой ни хотелось. Затем выпал первый снег, превративший развалины стены в скользкую, почти непреодолимую преграду, а издавна знакомый и привычный некрополь – в странные, чужие россыпи снежных холмиков. Монументы под покровом нового снега словно бы выросли, а кусты и деревья – съежились едва не вдвое.
Суть учения в нашей гильдии заключена в том, что бремя его, по первости легкое, тяжелеет по мере взросления ученика. Самые младшие освобождены от работы вовсе, пока не достигнут шести лет от роду. После этого их работа состоит в беготне вверх-вниз по лестницам Башни Матачинов, и малыши, гордые оказанным доверием, вообще не воспринимают ее как труд. Однако со временем работа их становится все обременительнее. Обязанности приводят ученика в другие части Цитадели – к солдатам в барбакан, где он узнает, что у учеников военных есть барабаны, трубы и офиклеиды, сапоги и даже блестящие кирасы; в Медвежью Башню, где он видит, как его сверстники-мальчишки учатся обращению с прекрасными боевыми зверями – мастифами, чьи головы едва ли не больше львиных, и диатримами, превосходящими ростом человека, с окованными сталью клювами… и еще в сотню подобных мест, где он впервые узнает, что гильдию его ненавидят и презирают даже те (вернее, особенно те), кто пользуется ее услугами. Вскоре подоспевает мытье полов и кухонные наряды, причем всю интересную и приятную кухонную работу берет на себя брат Кок, так что на долю учеников остается чистить и резать овощи, прислуживать за столом подмастерьям да таскать вниз, в темницы, бесконечные груды подносов.
В то время я еще не знал, что вскоре мое ученичество, сколько себя помню, лишь тяжелевшее, резко сменит курс и станет куда менее утомительным и куда более приятным. Несколько лет перед тем, как стать подмастерьем, старший ученик только присматривает за работой младших. Лучше становится и его пища, и даже одежда, и подмастерья помладше начинают обращаться с ним почти как с равным, и – что приятнее всего – на него возлагается бремя ответственности, возможность отдавать приказы и добиваться их выполнения.
Когда же приходит день возвышения, он – уже взрослый. Он занимается лишь той работой, к которой его готовили, по выполнении коей может покидать Цитадель и даже получает деньги из свободных фондов на развлечения за ее пределами. Если же он когда-нибудь возвысится до звания мастера (каковая честь требует единогласного решения всех живых мастеров), то сможет выбирать работу по собственному вкусу и интересу, а также получит право непосредственного участия в решении гильдейских дел.
Но не следует забывать, что в тот год, о котором я пишу сейчас, в год, когда я спас жизнь Водала, я всего этого не сознавал. С началом зимы сражения на севере, как мне сказали, временно прекратились; а следовательно, Автарх со своими советниками и высшими чиновниками вернулись в город и возобновили отправление судебных дел.
– Значит, – объяснил Рох, – предстоит работа со всеми новоприбывшими клиентами. И ожидаются еще – дюжины, если не сотни. Может, придется даже снова открыть четвертый этаж.
Взмах его веснушчатой руки означал, что уж он-то, по крайней мере, готов сделать все, что потребуется.
– Так он здесь? – спросил я. – Сам Автарх – здесь, в Цитадели? В Башне Величия?
– Конечно, нет. Если и приедет, ты уж всяко узнаешь, верно? Тут же пойдут парады, инспекции и все такое прочее. Да, в Башне Величия для него имеются покои, но двери их не отпирались вот уже сотню лет. Живет Автарх в тайном дворце, в Обители Абсолюта, где-то к северу от города.
– И ты не знаешь, где это?
Рох ощетинился:
– Как я могу сказать, в каком он месте, если там нет ничего, кроме самой Обители Абсолюта? А Обитель стоит на своем месте. На том берегу, дальше к северу.
– За Стеной?
Мое невежество заставило Роха улыбнуться.
– Далеко за Стеной. Пешком идти не одну неделю. Автарх-то, конечно, если захочет, может вмиг домчаться сюда на флайере. На Флаговую Башню приземлится.
Однако наши новые клиенты прибывали вовсе не на флайерах. Тех, кто попроще, пригоняли связками по десять-двадцать человек, в цепях, продетых сквозь кольца ошейников. Таких охраняли димархии, бойцы как на подбор, крепко сбитые, в простых, предельно практичных доспехах. Каждый клиент имел при себе медный цилиндрический футляр с личными документами и, таким образом, нес в руках собственную судьбу. Конечно же, все они срывали с футляров печати и читали те бумаги; некоторые пробовали уничтожать их или меняться друг с другом. Прибывших без документов держали в камерах до получения относительно них дальнейших указаний, причем некоторые за время ожидания умирали естественной смертью. Те, кто менялся бумагами, менялись судьбами; сидели в темнице или выходили на волю, подвергались пыткам либо казни вместо других.