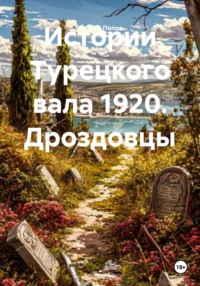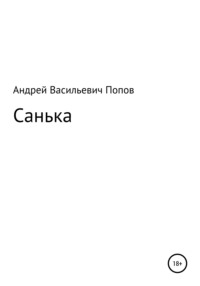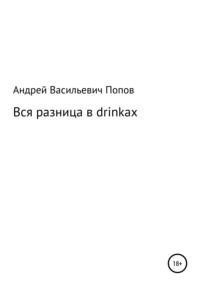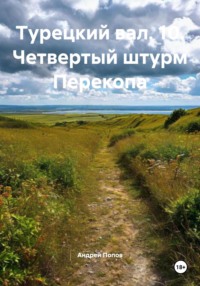полная версия
полная версияСардины атлантические, или Золотой иллюминатор

Андрей Попов
Сардины атлантические, или Золотой иллюминатор
На столе сотый раз за день «брынькнула мобилка». Находясь в одновременной переписке с десятком людей, я не заморачивался на одиночные сигналы. Заходил раз минут в пятнадцать, просматривая и отвечая на все сообщения разом. Но в этот раз сообщений не было. Это было напоминание о том, что у моего друга, Ауке, сегодня День рождения. Мало того, у него сегодня ЮБИЛЕЙ. Друг мой – это двухметровый голландец. Эдакий дядя Степа-великан. Такой же голубоглазый, добрый и улыбчивый. Так получилось, что на пенсии ему пришлось покинуть свой родной Амстердам из-за дороговизны жизни и поселиться в Португалии, в какой-то деревушке на берегу океана.
Я «залез» в переводчик, набрал душещипательное поздравление, перевел его и отправил юбиляру. Примерно через час он позвонил с благодарностью, и мы, как могли, он на голландско-английском, я на русско-английском, пообщались. Для встречи гостей он снял бунгало на берегу океана, заказал у местных рыбаков свежей рыбки и собирался готовить для гостей свое фирменное блюдо – сардины, жаренные в масле со спаржей. Оказывается, что сейчас в Португалии Сезон сардины…
Едал и я как-то жареную сардинку. Было дело. После этого разговора меня весь день преследовали воспоминания молодости и запах жареной рыбы.
… Это событие, конечно, не занимало первые места в рейтинге заводских новостей, но и не проходило незамеченным. Каждый год, весной, РПБ «Советская Украина», бывшая китобаза, становилась в завод на межрейсовый ремонт. Для непосвященных объясняю: РПБ это рыбоперерабатывающая плавучая база или совсем просто – плавучий завод по переработке рыбы. После того, как вступил в силу запрет на добычу китов, пароход переоборудовали в рыбоперерабатывающий завод.
Технология добычи и переработки рыбы в Советском Союзе выглядела следующим образом: непосредственно в районе промысла, где-то у берегов Африки, целая флотилия траулеров добывала рыбу и сдавала свой улов на РПБ. Плавбаза, стоя на месте, перерабатывала рыбу в консервы, рыбную муку и рыбий жир. Готовую продукцию забирало специальное рефрижераторное судно, так называемый «рифер», и вывозило ее на материк. Когда рейс подходил к концу, «Советская Украина» уже сама, с полными трюмами, своим ходом, возвращалась в порт приписки Одессу. Там она разгружалась и шла на межрейсовый ремонт в Севастополь.
Первым в заводе появлялся запах. Если честно, называть запахом то амбре, которое сопровождало «Украину», может только очень искушенный любитель вьетнамского соуса Ныок Мам. «Аромат» тухлой рыбы, старого рыбьего жира и еще всякого другого из этой же серии выдавал присутствие плавбазы за километр, а то и больше. Поначалу работники завода, понятное дело, воротили носы и обходили причал, где швартовалась «Украина», десятой дорогой, но со временем привыкали и практически не замечали этой вони.
После того, как огромное судно швартовалось к заводской стенке, на него поднимались представители таможни, погранцы и все, кому там еще положено, так как формально судно пришло из-за границы. Корабль «трясли» пару-тройку дней. Проверяли документы у всего экипажа, вывозили найденную контрабанду и только поле этого разрешали команде свободный сход на берег. Контрабанда на рыбоперерабатывающем заводе это совсем не джинсы, жвачка или автомобили. Здесь контрабандой были рыбные консервы, а именно, «Скумбрия с добавлением масла», «Сардины атлантические» и так далее. Я не буду перечислять весь ассортимент, дабы не подвергать опасности жизнь читателя. Вдруг кто-то голодный читает.
Почему эта контрабанда образовывалась? Ну, во-первых, виной этому был наш советский менталитет. Не иметь то, что произвожу, было за гранью наших возможностей, да и мало кто может отказаться от существенной, хоть и незаконной, прибавки к зарплате. Во-вторых, натуральный обмен, для обеспечения безаварийной работы всего завода на промысле, никто не отменял. Сейчас этот самый обмен называют «бартер». Представьте себе огромный корабль? Сколько там сложнейших механизмов, агрегатов, и все они должны пройти ремонт и обслуживание перед рейсом. Ведь в море обратиться уже будет не к кому. Вот и шли к нам «ходоки». Сделай то, сделай это, помоги достать подшипники, манжеты, ремни и еще много всего, из чего состоит пароход и заводское оборудование. Расплачивались в основном консервами. В советское время, прямо скажу, такая схема работы была очень распространена. Главное, что это было быстро и без всякой волокиты. На заводе даже существовал негласный ценник на различные работы, где валютой расчетов служили консервы. Начальство про бартер конечно было в курсе и поначалу смотрело на все это сквозь пальцы. Но после оглашения коммунистической партией движения против «несунов»*, такую схему стали пытаться всячески прикрывать. В очередной приход «Украины», все заказы стали оформляться официально, и число ходоков в цехах резко сократилось. Обмен практически пропал, консервы стали только продавать, и цена из-за этого резко пошла вверх, ведь на корабле ребята были тоже не промах. Они понимали всю ценность экологически чистых продуктов и уж совсем за бесценок продукцию свою не отдавали. Возник прямо-таки неудовлетворенный спрос, а отсюда и дефицит.
В то время мне пришлось трудиться мастером в ремонтно-механическом цеху, на мой взгляд, одном из самых привлекательных с точки зрения «левых» заказов и возможности обмена. Какой-то строгой номенклатуры работ у нас не было. Станочники выполняли заказы слесарных участков и, самое главное, что у нас постоянно был дежурный токарь, который мог выполнить практически любую просьбу мастера, в том числе и «левую». Проточить, подрезать, шлифануть. Называлось это «стоять на подборе».
Так вот, когда консервный кризис вырос до масштабов заводской катастрофы, меня познакомили с пятым помощником капитана «Советской Украины». Звали его Виктором. Ему вдруг срочно понадобились водопроводные сгоны, и он с жаром мне объяснял про какую-то пожарную магистраль на пароходе, которую опечатали бездушные инспекторы, а без нее в море не пустят. В общем, вешал он мне откровенную «лапшу», потому как, увидев корявый эскиз, я сразу понял, что эти сгоны на дачу. Такую продукцию мы конечно тоже производили и при случае делали ее, на всякий случай, с запасом. Использовались сгоны и как взятка, и как обменный фонд на что-нибудь другое, тоже нужное и полезное, но производимое в другом цеху. Достав из-под своего стола связку этих самых сгонов, я отсчитал нужное количество и спросил, усмехаясь:
– Тебе хватит? Это ж на дачу?
Увидев такое богатство, свободно валяющееся под столом и попираемое ногами, помощник капитана, смутившись, задал встречный вопрос:
– А сколько вообще нужно? Это папа попросил, я-то не сильно в курсе.
– Дача у Вас сколько соток? Шесть?
– Да.
– Тогда нужно еще два. – и я передал ему погромыхивающую связку.
– Спасибо огромное. Слушай, чем же мне тебя отблагодарить?
– Та тем же, чем всегда. Консервами. Давай сардины. По-моему, они самые вкусные.
– Гм, тут такая ситуация. Я к ним отношение практически не имею. Конечно, достать я их смогу, но ни хорошей цены, ни ассортимента не гарантирую. Давай зайдем в буфет, я тебя угощу, и что-нибудь придумаем.
Мы пошли в директорский буфет, чего-то там взяли, и Витя рассказал мне про «консервную» иерархию на пароходе. Оказывается, что экипаж судна делится на две части. Непосредственно экипаж корабля и отдельно сотрудники завода. У экипажа свои задачи: вахты, подвахты, курсы, погода и так далее. У сотрудников завода свои: план по количеству, план по ассортименту, качество продукции, отгрузка, погрузка. Так вот получается, что особого доступа к консервным богатствам экипаж практически не имел. Можно было конечно пойти и без проблем взять баночку себе на ужин, но создать какой-то более-менее запас было затруднительно. И потом, мало было накопить консервы. Чтобы благополучно доставить их на берег, их нужно было еще и умело спрятать. А сделать это в одиночку практически невозможно. При всей своей огромности, на пароходе очень мало укромных мест в которые может попасть любой член экипажа. Каждый закуток закреплен за определенной службой и имеет своего ответственного. Вот и приходилось «контрабандистам» объединяться в бригады, беря в долю боцманов, плотников и механиков. Но и сотрудники завода тоже не могли безмерно брать консервы. Ведь как во всей плановой экономике, на заводе тоже были свои социалистические обязательства и соответственно планы выпуска готовой продукции. Планы были и рейсовые, и месячные, и дневные, и сменные. Хорошо если рыба ловилась, и с выпуском консервов не было проблем. А бывало, за ней гонялись по всему океану, еле-еле окупая потраченное топливо. Тогда ни о каких «левых» запасах речи быть конечно не могло.
– Давай-ка я тебя познакомлю с заведующим производством. Хороший парень. Гришей зовут. Он руководит всем процессом по выпуску консервов и точно сможет нам помочь. – втолковывал мне Виктор.
– Знакомь конечно, но уж если помощник капитана не в силах помочь, то кто ж тогда?
– Ты, что! Григорий точно сможет, а уж если ты ему что-нибудь сделаешь, то вообще лучшим другом будешь. Знаешь, как у нас его зовут? Гриша – золотой иллюминатор. Да, и про сардины. Они конечно хороши, но самые вкусные консервы это те, которые заводские технологи готовят лично для себя и только по собственным рецептам. О таких на берегу мало кто даже слышал, а не то, чтобы видел или пробовал. Григорий в этом большой мастер.
Витиеватый эпитет про «золотой иллюминатор», я как-то пропустил мимо ушей. Мало ли какие иллюминаторы бывают на пароходе, может есть и золотые.
Прошла неделя, когда, возвращаясь с Северной стороны, я увидел у входа на участок мужчину. Пройдя мимо него, я направился в курилку, где коротали обеденный перерыв рабочие, и уже начал обсуждать с одним из бригадиров ремонт очередного механизма, когда мне указали, что этот мужчина меня уже давно ждет.
– Я от Виктора. «Советская Украина».
– А, вы, наверное, Григорий? Чем могу быть полезен?
– Вы мне вообще расскажите, что можно сделать в Вашем цеху, чтобы можно было сориентироваться.
И я ему стал показывать самые, на мой взгляд, привлекательные места, с точки зрения удовлетворения личных потребностей. Посетили мы и термичку, и участок по ремонту грузовых талей, и станочный парк, и даже, святая святых, кладовую с залежами дефицитных подшипников и ремней. Он внимательно все расспрашивал, трогал руками и даже записывал. Потом сказал:
– Мне уже нужно идти. Я все обдумаю, не торопясь, и подойду отдельно.
– Хорошо, подходи.
Через пару дней он появился у меня с какими-то нержавеющими штуцерами и попросил выточить такие же, но «вот здесь потолще, вот здесь поуже, а вот здесь подлиннее, чтобы до сюда доставало, когда здесь закрутишь». В таких ситуациях что-то чертить или замерять бесполезно. Этот набор слов положить на бумагу в виде эскиза или чертежа невозможно. Единственный выход – отвести его «на подбор», что я и сделал:
– Иван Федорович, это Григорий. Он расскажет, что нужно сделать. Справимся?
Иван Федорович поправил очки, повертел в руках блестящие железки и завел свою бесконечную песню про отсутствие специального инструмента, нужного материала и человеческого подхода к рабочему классу. Я быстро ретировался, так как знал из собственного опыта, что, если начинался этот «плач Ярославны» значит, на самом деле все есть и заказ будет сделан. Через день Григорий пришел еще раз, потом еще. Он уже самостоятельно подходил к токарю, и они что-то там подрезали, торцевали и т.д.
Тут настало время сделать лирическое отступление на тему быта заводских мастеров.
Проводя на работе полжизни, каждый из нас старался ну хоть как-то приукрасить окружавший его незамысловатый, если не сказать убогий, заводской быт. Результаты этих стараний зачастую зависели от возможностей работника и его производственного статуса. Единственным местом, где заводской мастер не стоял, не бежал куда-то сломя голову, а работал сидя, был его рабочий стол. Находясь в самом низу заводской иерархической пирамиды (пищевой цепочки), мастер имел достаточно скудные возможности по его выбору. Какой дали, такой и есть. Хорошо, когда стол был с тумбочкой или ящиком, куда можно было сложить нехитрый мастерский скарб. Еще лучше если стол был двухтумбовый, бывали и такие. А если ящички еще и запирались на замки, то цены ему вообще не было. Стул тоже многое говорил о статусе своего владельца. Твердый, мягкий, вращающийся, обшитый тканью или кожзаменителем. Но все-таки самое главное это то, что было на столе. В те времена, когда не было лотков, органайзеров и прочих канцелярских богатств, а карандаши и ручки стояли просто в стакане, главным атрибутом стола заводского мастера было стекло. Да, да стекло, лежащее на столе. Под него очень удобно было положить табель, календарь, всякие справочные таблицы, а также фотографии, как производственные, так и личные. То есть все то, к чему должен быть мгновенный доступ. Но не все так просто. И стекло бывало разное. У простых смертных на столе лежало обычное оконное стекло, грубо обрезанное стеклорезом и слегка затертое наждаком. Через него было очень хорошо видно, но оно было холодным. От него болели руки, и оно могло разбиться от неловкого движения или малейшего удара. У людей статусом повыше на столе лежало органическое стекло. Оно было менее прозрачное, но более теплое и небьющееся. И на самой вершине этой пирамиды стоял триплекс. Это был прямо самый «жир». Два листа каленого стекла, разделенные слоем полиэтилена. Через такое стекло и смотрелось лучше, и руки от него не болели, и разбить его нужно было постараться. Достать его было практически невозможно … Но, не для меня. Я уже рассказывал, в каком цеху мне пришлось работать. Это был самодостаточный минизавод внутри большого предприятия, поэтому в желающих «подружиться» со мной недостатка не было. И так получилось, что совсем незадолго до прихода «Украины», я стал владельцем пяти листов триплекса, обменяв их на ступичные подшипники для «Запорожца». Два листа легли на мой стол и стол технолога, а еще три стояли за шторкой раздевалки, ожидая своей участи.
И вот тут заходит в мою коморку Григорий и кладет на стол, на мой новенький триплекс, какую-то очередную железяку:
– Андрей, посмотри, вот эту фаску нужно сделать больше чем …
Пауза затянулась, а Григорий все смотрел и смотрел на стол, и я понимал, что взгляд его сфокусирован не на железке.
– Что это?
– В смысле, что это? Ты же сам принес этот хлам.
– Я не о грунд-буксе. На столе у тебя что?
– Триплекс. Небьющееся стекло с полиэтиленом внутри. Новейшие технологии. Не видел, что ли?
– Нет. Э-э-э-э. Слушай. Отдай мне его, Андрей. Отдай! Будь человеком. Проси, что хочешь, но отдай.
– Подожди, а грунд-букса?
– Да ну ее. Забудь. Отдай мне это стекло.
– А как же ты насос починишь?
– Пусть капитан-директор думает. Завтра на совещании скажу, что исчерпал свои возможности. А я тебе за триплекс пак «Сардины» отдам. Свежайшие, Андрей, свежайшие сардинки. Просто пальчики оближешь. Специально для себя катал, на оливковом масле! – и Гриша стал убирать с моего стола чертежи, бумажки, наряды и так далее.
– Ты, что делаешь? – спросил я его.
– Ну ты же мне отдаешь триплекс.
– Да отдаю, отдаю. Но зачем громить мой стол.
– Ну так как же тогда я его заберу? – он недоуменно смотрел на меня.
– А это не твой триплекс. – сказал я.
– Как не мой? Ты же мне его отдаешь.
– Твой вот здесь. – и я, как фокусник, эффектно отбросил шторку с раздевалки, глазами показывая на три листа.
Такого изумления я не видел никогда. И этот человек, производящий за полгода несколько миллионов банок консервов!
Увидев такое богатство, Григорий, на некоторое время потерял дар речи, но придя в чувство, быстро сообразил.
– Андрей я возьму два. И не спорь. Помоги мне, пожалуйста, донести их до парохода. Заодно я тебе экскурсию устрою. Ты ж не был, наверное, на таком судне?
– Ладно. Бери, грабь, крохобор несчастный. – я попытался изобразить деланное негодование.
… Мы с комфортом доехали до «Советской Украины» на цеховой электрокаре и поднялись по высоченному трапу на борт. Чтобы добраться до каморки Григория нам пришлось, со всей осторожностью, все-таки в руках у нас было хоть и небьющееся, но все же стекло, преодолеть целый лабиринт узких коридоров, крутых подъемов и спусков. Оказавшись на месте, первым делом мы примерили триплекс на стол. И о чудо! Его как будто изготовили для него. Вот прямо тютелька в тютельку. Радости Григория не было предела. Он тут же принялся раскладывать под стекло всякие календари, бумажки и таблицы. Полюбовавшись на свою работу, он, словно спохватившись, вспомнил обо мне.
– Пойдем перекусим в нашу кают-компанию, а потом я тебе пароход покажу.
В небольшой комнатке был накрыт белой скатертью стол и стояла большая тарелка с ворохом жареной рыбки золотистого цвета. Нам подали серый хлеб из пароходной пекарни и какую-то зелень.
– Видишь какая упитанная. Нагуляла бока у Африканских берегов. Ее нужно обязательно сбрызнуть вот этим соусом. – Гриша пододвинул мне маленькую бутылочку.
– И в консервы такая же идет? – спросил я с полным ртом.
– Всякая идет. Просто если нужно что-то «для себя» особенное, то мы специально идем на конвейер и отбираем сколько нужно. В прилове чего только не попадается. Ты ешь, ешь.
И действительно. Рыбка была небольшая, но толстенькая, ровно на два укуса. И проглатывалась она мгновенно. В общем, съели мы огромную тарелку очень быстро и вкуснее чем эта сардина, я жареной рыбы не едал, ни до этого, ни после.
Пообедав, мы пошли гулять по пароходу. В машинном отделении мы посмотрели на дизеля, высотой в двухэтажный дом, с верхней палубы заглянули в трюма, глубиной добрых пятнадцать метров, поднялись на капитанский мостик, с высоты которого было видно весь завод. Удовлетворенные прогулкой вернулись снова в рыбцех. И тут я обратил внимание на иллюминатор. Вроде бы обычный иллюминатор, каких на пароходе сотни. Но этот был начищен до зеркального блеска, обрамлен в рамку и закрыт специальной шторкой.
– Слушай, а что это он так выделяется?
– Так это ж «золотой иллюминатор».
– В смысле золотой? Прямо золотой-золотой?
– Да нет конечно. В переносном смысле.
– Мне Виктор говорил, что это название как-то связано с тобой?
– Вот же … я с ними разберусь. – заулыбался Григорий.
– Понимаешь, на плавзаводе я отвечаю за качество продукции. Если с мукой и рыбьем жиром все просто, их трудно испортить, да и идут они на корм животным, то с консервами все непросто. Пока настроишь все автоматические линии, пока котлы выйдут на стабильный режим, столько брака бывает наделаем, что иногда страшно становится. Вот в последнем рейсе закаточная машина постоянно заминала край банки. Вроде ерунда, совсем чуть-чуть, но вид не товарный. В продажу такая банка не пойдет. Значит брак. А внутри-то все нормально, консервы отличные. Пока разобрались, нашли и устранили причину, накатали несколько тысяч банок. Рыба-то поступает на конвейер сплошным потоком, его ж не остановишь. То вдруг котел стал барахлить. Пар стал нестабильно поступать в автоклав для стерилизации. Совсем на чуть-чуть, температурный режим в пределах допуска, но банка немного вздулась. Все, брак. А через пару дней банка пришла в норму, я отправил консервы на анализ. И что ты думаешь? Все нормально! Но рисковать никто не стал, пришлось списывать всю партию. Бывает, конечно, как и везде настоящая халтура.
– Слушай, а вот откровенный брак куда убираете? На склад? – я окинул взором тесные проходы рыбцеха.
– Та никуда. Сам видишь. Куда тут складировать. Да и нельзя брак показывать, а то могут такой нагоняй устроить, что мало не покажется. Про Продовольственную программу партии слыхал? Поэтому избавляемся от него любыми возможными способами. Если брак чисто механический, и консервы нормальные, то что-то может съесть экипаж, что-то можно отдать рыбакам на траулеры или военным, которые нас охраняют, что-то продать или обменять у местных. А если брак по анализам, то тут можно только втихаря утилизировать.
– В смысле утилизировать? На пароходе есть для этого специальное оборудование?
– Специальное оборудование? Хм. Ну можно и, так сказать. Садишь двух матросов, открываешь вот этот самый иллюминатор и «Прошу все за борт!». Его и называют «золотой» потому что столько через него утилизировали консервов, что можно было бы изготовить его из чистого золота.
Увидев мое выражение лица, Гриша засмеялся:
– Не переживай так сильно, и здесь не все пропадает. Местные аборигены прознали про это. Подплывают на своих джонках и дежурят бывало сутками. А когда происходит сброс, тут прямо шоу начинается. И сачками ловят, и лодки подставляют, и несмотря на акул ныряют чуть не за каждой банкой. Голод не тетка. Это у нас брак, а для них – еда. Все лучше, чем саранчу есть. Своеобразная наша помощь, бедствующему населению Африки. Пошли, я с тобой рассчитаюсь…
Мы вынесли по трапу два пака консервов «Сардина атлантическая, бланшированная в масле» и положили на электрокару.
– А это лично от меня. Когда попробуешь, обязательно сообщи свое мнение. – и он протянул мне две больших консервных банки без этикеток.
У меня прям сердце зашлось. Ведь по заводу до сих пор ходила байка, как в один из рейсов возникла путаница и на банки, набитые красной икрой, наклеили этикетки «Сардины атлантические». Я не знаю масштабов этой путаницы, но однажды такая баночка попалась мне на самом деле. Было очень приятно. А тут две килограммовых банки! По приходу домой я первым делом предложил супруге тут же открыть одну из них … Конечно там была не икра. Волшебство не обязано быть регулярным и частым, на то оно и волшебство. Там были подкопчённые брюшки скумбрии, так называемая теша. Это конечно не красная икра, но, доложу я Вам, это была … как бы Вам сказать … как бы донести, гм … подкопчённые брюшки … А, ладно. Бесполезно пытаться выразить это словами. В общем, я был не в обиде, а жена, как большая ценительница, просто в восторге.
Наше обоюдовыгодное сотрудничество продолжалось еще пару месяцев и перед самым уходом «Украины» в рейс я был приглашен на борт парохода отметить «Отвальную». В тесной компании ребят я наслушался морских баек и от души напробовался Гришиных деликатесов, приготовленных из каких-то неизвестных мне рыб и существ. Понятное дело, что рассказы и дегустация щедро сдабривались напитками, изготовленными тут же, вручную, из воды и спирта. Потом мы долго прощались. Сначала в каюте, потом на верхней палубе. Пытаясь перекричать Корабельную бухту, стояли, обнявшись у борта, и орали во все горло:
– Вот, новый паварот
– И мотор ррревет…
Продолжили прощаться уже на трапе, пока наш цеховой водитель силой не разорвал наши крепкие объятия, погрузил меня на электрокару и с ветерком доставил на проходную. Когда я на следующее утро пришел на работу, причал, у которого была пришвартована «Советская Украина» был пуст. Вдоль моря лежал только длиннющий трап, по которому всего несколько часов назад я сходил на берег.
… На следующий год «Украина» по обыкновению снова встала в завод на ремонт и через две недели загорелась в доке. Мой знакомый Виктор, пятый помощник капитана, на себе вытащил потерявшего сознание пожарного. Вытащил через две палубы через такой жар, что в спецкостюме лопнуло стекло в маске. Григорий, трое суток, пока тушили пожар, находился тут же возле дока, помогая пожарным разобраться в схемах парохода и консультируя, как ловчее охладить емкость с десятью тоннами оливкового масла, чтобы избежать еще большей беды. Но это уже совсем другая история.
После пожара «Украину» долго ремонтировали, и она все-таки смогла сходить еще в несколько рейсов, а потом … потом ее продали в Турцию на «иголки» **.
Я до сих пор, будучи в магазине, не пропускаю полок с рыбными консервами. Глаза сами собой ищут знакомую надпись: «Сардины атлантические» и я безуспешно пытаюсь найти на этикетке меленькое: «Произведено в море на РПБ «Советская Украина».
*«несуны» – сотрудники, выносящие с предприятия товарно-материальные ценности.
**Продажа на иголки – продажа на металлолом.