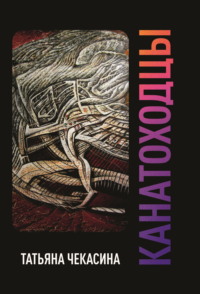Полная версия
Пять историй

Татьяна Чекасина
Пять историй
Сборник
Об авторе
Татьяна Чекасина – автор нескольких книг. Это не бульварная массовая литература, а настоящая традиционная проза. Недавнее издание: «Похождения светлой блудницы», книга о любви. Издательство «Де Либри» 2021 год.
История с историей
Авторское предисловие к книге «Пять историй»
Это моё личное определение жанра художественного произведения в отличие от других жанров: «рассказ», «новелла», «повесть», «роман», названия к которым придуманы не мной. А вот произведения этого жанра, по объёму нечто среднее между рассказом и повестью, именно мною названы так: «история».
Такой новый жанр в литературе возник не случайно. Он имеет даже и не только литературную подоплёку, но и прямо-таки политическую.
Вспомним «перестройку», те разрушения, которые она принесла нам, нашей стране, нашему обществу и нашей культуре.
Культура идеологична, она находится в полном подчинении идеологии, которая на данный момент бытует в обществе, которая взята на вооружение пропагандистской машиной государства на данный момент. Должна уточнить для тех, кто, может не владеть данным вопросом.
Идеология и пропаганда существуют всегда. Но одной из особенностей перестройки была путаница в головах. Этим головам внушали, что идеология и пропаганда – это такие злые демоны «коммунизма», а вот при капитализме, который мы собираемся ныне строить, никакой идеологии и никакой пропаганды нет. Это была фундаментальная ложь, плоды которой мы пожинаем теперь, и наиболее яркая жатва то, что происходит на Украине, где гибнут мирные люди, а наши солдаты попадают в жестокий плен.
В перестройку как раз и проходило перестраивание с идеологии социализма на идеологию капитализма. Первая идеология была нацелена на добро, напоминает Евангелия, а вот вторая нацелена на стяжательство, культивирует жадность и жажду убийств ради денег. Можно сказать, что это обычная фашистская идеология. Ради своей выгоды, ради завоевания (не важно, соседнего ларька или огромной территории), но основа эта.
Наиболее идеологичной в культуре является художественная литература. От этой основы происходит уже и театр, и кино. Какая литература, такие и зрелища.
Перестройка в литературе с гуманной идеологии, основанной на великих человеческих ценностях, на идеологию фашизма произошла следующим образом. Для начала практически удалили из книгоиздания всё, что связано с социальной гуманитарной идеологией, а это весь фонд великой русской советской литературы. Всех, кто следовал в своих произведениях идеологии добра, любви, равенства и братства, были отлучены от издательств. В ход пошла пошлость, легкомысленные детективы как её главная составляющая, некие любовные похабные романчики, но самым серьезным оружием в борьбе был модернизм-постмодернизм, имеющий в своей основе именно профашистскую идеологию. Человек в этой массовой литературной пачкотне просто сам по себе стирается в порошок, становясь лишь неким употреблением для вампиров капиталистической идеологии.
Над произведениями русских советских авторов подсмеивались: это и «сплошной зёв», это и «просто какие-то истории», это же «не искусство». Эти эпитеты уничтожили тех авторов, которые являлись традиционными по отношению к русскому искусству литературы. Им больше не было места на земле и на книжных полках. Их места заняли переводные низкокачественные поделки всяких «толкиных» и «роулингов», какой-то «кинг» стал королём писателей, а среди отечественных появилась масса подражателей их бурным, грязным, тёмным фантазиям, отупляющим и унижающим человека на каждой странице. Так фашизм победил в литературе. А это уже восемьдесят процентов его победы на пространстве идеологии.
Но вернусь к историям. Неофашисты в литературе объявили «искусством» свои жалкие запутанные тексты модернизма-постмодернизма, а вот то, что было написано нормальным языком художественной литературы, объявили чем-то «примитивным», близким к журналистике. Но то, что они стали называть историями, это было и есть искусство литературы. Именно человеческие реальные истории легли в основу абсолютно всех гениальных художественных произведений. А никак не бред «бери» «роллингов», «кингов» и прочих «новаторов». Например, «Анна Каренина» – история женщины, которая закончила жизнь самоубийством. «Свет в августе» Фолкнера – история парня, цвет кожи которого не устраивал нацистов, и он погиб от их рук. Это вершины в литературе. Искусство вечно, и оно вечно зиждется только на высоких человеческих ценностях, оно человеко-центрично, и при наличии трагедии в произведениях оно не убивает человека, а поднимает и укрепляет его в жизни, делая его жизнь радостней.
Мои истории о людях – тоже кажутся простыми, невыдуманными. Но за подачей этих историй, как и вообще в реализме, который является вершиной искусства литературы, стоит большая творческая работа. Чтобы основа истории, её материал, превратился в художественное произведение, надо много поработать, надо иметь соответствующее для этого образование, но главное, всё-таки, талант, можно это громкое слово заменить на способности, но не нужно, ибо талант и есть талант, это дар, который даётся настоящему писателю от бога. Когда человек одарён, он уже не выбирает, он не может выбрать никакого другого жизненного пути, никакой жизненной работы, кроме этой единственной: создания литературных произведений в формате искусства литературы.
В книге представлено всего пять историй. Но написано куда больше. Приоткрываю вам профессиональную тайну. Написано, не значит, закончено. Предстоит ещё работа над тем, что написано. Немало историй находится и на стадии замыслов, которые у меня имеют вид кратких записей, но по мере существования, по мере жизни этих именно замыслов, они обрастают новыми деталями и в деле создания образов, и в сюжетных перипетиях, дорабатываются и в аспекте философии и психологии. Когда это зерно превратится в росток, я получаю изнутри толчок и начинается довольно спонтанная выдача текста, не на компьютере, конечно, а от рук. Я пишу то правой рукой, то левой. Иногда текст бывает таким большим, утомительным для физической выдачи, что устаёт одна рука и принимается за дело другая. Двоерукость – это тоже дар божий в данном случае. Меня, от природы левшу, в советской школе очень правильно переучивали на правшу. Тот, кто понимает в психологии человека и в психологии творчества, знает, какое это колоссальное преимущество перед теми, кто пишут только одной рукой. Для писателя, конечно.
Черновых текстов немало, некоторые уже на стадии компьютерного набора, который я выполняю со скоростью профессионального наборщика текстов, но, в целом, работа над каждым произведением и далее идёт довольно медленно, и каждое произведение имеет не один вариант, а много, а правки литературного текста могут продолжаться уже и в вёрстке. Тут я не одинока. Лев Толстой имел конфликты с книгоиздателями именно на тему правок там, где их, по идее, уже не должно быть. Роман «Война и мир» имел десять вариантов. Не подражаю великому, но процесс одинаков, одна профессия – писатель. И я счастлива, что бог мне позволяет работать в этой именно профессии.
Татьяна Чекасина, писатель
Предисловие к истории «Черновики»
Вместо Киплинга на ночь (телевизор был в зачаточном состоянии и «Спокойной ночи, малыши» ещё невозможно было посмотреть), папа развернул газету. «Правду». Мне ещё маловато лет, чтобы читать газеты, да и слушать их чтение. Он говорит, что эта – главная газета у нас в стране, и, видишь, напечатан рассказ, называется «Судьба человека». Видишь: посвящение? Рассказ посвящён «бабушке Жене» (так он называет ту, кому автор, Шолохов Михаил Александрович, кстати, полный тёзка моего папы) посвятил этот рассказ.
Конечно, он не стал мне читать этот взрослый рассказ на ночь, но передал мне ту радость публикации, которой был охвачен сам. Ну, и то, что Евгения Григорьевна нам какой-то близкий человек. Да, мой папа с ней общался, знал её, ведь она была родной сестрой его дедушки. Не такая и близкая родня, но в моей семье придавали значение родству, понимали важность родства, даже такого дальнего.
Вот с ней и общался Шолохов.
Евгения Григорьевна была первым редактором «Тихого Дона», и ей посвятил писатель этот свой знаменитый рассказ. Сама я никогда не общалась с Шолоховым или с его литературными друзьями, никогда не обращалась ни с какими просьбами в отношении писательской жизни. Шла исключительно своим нелёгким путём, им и продолжаю идти. Но отношение к литературе и к Шолохову было воспитано во мне, как надо.
У Левицкой была внучка (недавно умерла) тоже Евгения, только Игоревна. С Женей Левицкой (второй, то есть внучкой) мы общались по-родственному, отмечали и праздники, и тризны. И когда началась клеветническая компания против Шолохова, мы переживали это как личную драму. Было очень больно за то, что делали с ним, как его убивали буквально.
Помню один грустный «праздник» в подвале у Петровских ворот. Самый разгар травли. Мы с Евгенией Игоревной и со Светланой Михайловной (дочерью Шолохова), несколько певцов из тогда практически разогнанного Казачьего хора. Это было так тяжело, хоть и пели хорошо! Это был сущий андеграунд русской великой прозы, нас всех, кто работал в традиции русской литературы, в традиции Шолохова, будто загнали в этот подвал. В общем, расправились.
Евгения Игоревна Левицкая, учёный, энергетик, ведущий сотрудник ВЭИ (Всесоюзного энергетического института), приняла участие в поисках черновиков Шолохова. И то, что она сделала, очень помогло спасти наследие и прекратить травлю.
По мотивам происшедшего и написана мною маленькая памфлетная повесть под названием «Черновики».
Черновики
Писательская история
Эпиграф: «Рукописи не горят»,
да и спрятать их невозможно.
Часть первая
1Евгении приснились те, кто давно умерли.
Бабушка, тоже Женя, умоляла: «Защити, внученька!» Александр Широков, гений мировой литературы, её поддержал: «Да, девочка, защити».
Это был не сон. Это были голоса. Бабушка и Александр Емельянович умоляли их «защитить»!
Евгения испытывала на крепость трансформаторы. Во время испытаний на полигоне научилась твёрдо глядеть в пламя очередного взрыва. И теперь, глядя твёрдым коммунистическим взглядом, приняла решение. Она, внучка Пригоровской, которой Широков посвятил знаменитую повесть «Любовь к человеку».
Немедленно набрала номер телефона вдовы его друга:
– Клотильда Сидоровна, отдайте государству бумаги Широкова!
«Ты што, шу ума шошла, Евгения? – Старуха не имеет дефектов речи, она ест плюшку. Но с некоторых пор мечтает завтракать паюсной икрой и другими яствами. – Мы переезжали из одного дома в другой. Целых десять метров!»
– Там только помойка! – возразила Евгения. – Ничего другого и нет между этими домами!
«Вот там и очутились. Их дворники сожгли», – Клотильда бросила трубку.
Дорогой друг писатель! Не отдавай черновики произведений единственному другу, ведь у него может быть не адекватная вдова!
На другой день Евгения не стала звонить, а приехав к дому Клотильды, как опытный сыщик, не вошла в подъезд. С фасада дом – гладкий: ни балконов, ни эркеров. А со двора, будто сторожевая башня. Узкая готика укромных окон. Не дом российского купца, а рыцарский замок, разделённый непонятным выступом. Вот и Клотильдино, кухонное – бойница для отстрела-обороны. Внизу – дверь.
Подобрав полы пальто, Евгения перелезла сугроб. Подёргала. Не за ручку (её нет), – за угол. С внутренней стороны крючок.
Её бабушка работала в издательстве. Первой прочитала роман «Волжский брег», став для Широкова литературной мамочкой.
О, литературные мамочки советской эпохи! Вам бы памятник! Когда ты молод, голоден, душа без кожи (оголена арматура нервов), а взгляд в будущее, ничего не видишь: ни начальства, ни правительства, ни автомобилей на дорогах, ни подлости, ни обмана.
Первое, что делает литературная мамочка, убеждает плотной едой у себя на квартире или на даче, что ты – гений. До неё думал – недостаток характера. Далее деловито разбирает твой текст. Жил в темноте людского, да и собственного недопонимания. Тебя поняли. Тебе зажгли свет!
Широков одно время квартировал у Пригоровских. Сын Евгении Николаевны стал его другом. В первых письмах с Волги обращался по имени-отчеству, а потом и так: «Дорогая мамуня!»
О, дорогая мамуня! Теперь вас обоих оклеветали. Поток наветов: «Где черновики знаменитого романа? Или, хотя бы, образцы почерка нашего классика? Неужели в семье Пригоровских? Как же так сынка литературная мамочка подставила?» Лагерное словцо.
Итак, в квартире Клотильды есть тайная лестница! Чёрный ход! Был таковой в этом детективе.
2Увидев поверх дверной цепи «наглую девчонку», родственницу редакторши, Клотильда Сидоровна чуть не откатилась в глубину квартиры, но пакет, в нём сладкие, источающие аромат пекарни плюшки…
– Наконец! А то всё по телефону.
– Как ваши дела?
– Умираю.
Здравый ответ. В надежде и на другие такие, Евгения вынула из сумки газету:
– Вот, что пишут в «Московской истине»: «…Как нужны созданные рукой мастера тексты для доказательства истины! Предположительно, они у одного друга». Нашу дачу вверх дном. Вряд ли, «люберы», наверное, черновики искали.
– Дверь плохая?
– Металлическая.
– И как они?
– …высверлив замки.
Не зря старушка про дверь! Та, что со двора, не из металла.
– А вы, Пригоровские, отдайте бумажки в Институт Мировой Литературы, ну, в архив ИМЛИ. Неладно: Саша писал, а вы прячете.
Ушла внучка Сашкиной редакторши.
Не пронюхала ли она про чёрный ход? Меньше всего хотелось, чтобы кто-то, кроме неё, отважной пенсионерки, инвалида первой группы, имел информацию о том, что именно в темноте никому неведомого пространства она хранит надежду быстро убывающей жизни.
Как это – «отдать государству» (идея Пригоровской) то, что реально загнать! Клотильда Сидоровна, поедая обсахаренную плюшку и осыпая сладким песком статьи в «Новой культурной газете», довольно хихикает: «Цена опять выросла!»
Атрофировались не только ноги. С некоторых пор – некоторые моральные качества. А то бы протянула руку к телефону: «Забирайте ценность!» «Нет уж! Я нянек найму целый штат. Будут вывозить меня на колясочке на прогулки», – подумав так, обмерла: рядом в лакейской готовности маячит кто-то! Доброжелательный господин. То ли обыкновенный перекупщик, то ли Воланд какой-то!
– Буду-буду… – ответ не на слова, а на… мысли!
Но и такой удивительный ответ не насторожил её. Ни о чём она негативном не помыслила, ничего плохого не заподозрила! Оглянулась: куда делся он, не мог же вышмыгнуть через чёрный ход?
Этот тип, представившийся литератором Люцифéровым, неизвестно кто. Не чёрт, видимо, а так, охотник за чужими рукописями? Вряд ли, бандит и грабитель. Известный широкововед. Строчит на одну тему: до чего гениален Широков.
Знала она Сашку, с Ваней дружил. Ваня так их деревню родную воспел, из которой они в Москву приехали! Широков тоже о своём крае. Роман «Волжский брег». Впрочем, теперь говорят, – не он автор! Оттого и стоят так дорого эти затхлые бумаги! Продаст, и – на лечение в австрийскую клинику!
Клотильда Сидоровна, покручивая колёсиками, зарулила в угол, где потолок мансардовым наклоном в пол. Ныне, как никогда, хотелось увидеть ценный чемодан. Хорошо, никто не догадывается! Какие чёрные ходы! У кого сейчас есть хоть один в панельном доме? Но тут из кухни дверь. Впритык шкаф. Чёрный выход на чёрный день.
3Афанасий Иноперцев в аэропорту во Франкфурте-на-Майне до взлёта проглядел «Новую культурную газету», получаемую дома. В Канаде. Там он, гордый затворник, настукал на клавиатуре много, тиснул на принтере и – на полки рядами.
Но его время, наконец-то, настало! Возвращался! Давненько покинул родину. Тогда называлась мощно: Союз Советских Социалистических Республик. СССР. Почти, как США. Теперь мягко – Россия. Почти как Югославия. Хватит, будто в подвале, в Виннипеге, заваленном снегами, как Воркута! В Воркуте бывал. Богатая биография. И далее обо-га-чи-вал. Такое словцо. Он – мастер неологизма.
Двинулись на долгожданный рейс. Сыновья, как три богатыря: Фарлаф, Ратмир и Рогдай. Любимая жена Гаврилиада. На лице одна мысль: «Я с тобой, Афанасий!» Белый лайнер, словно белый конь.
Встречают бурно.
И в толпе небритая мордёнка Зайцева-Трахтенберии какого-то. Неприятно, точно кредитор. А ведь ещё платить! Может, так обойдётся? На возне с Широковым этот мелкий литературоведишка сделал карьеру. Видеть его неприятно. Но первым лезет под софиты. А снимают все телеканалы, какие тут есть, в этой стране (на родине – поправился).
Объятия, цветы (и от этого Трах-тен-берии). Тараторит о передаче. Ах, да, эфир на телевидении! В Канаду обзвонился некто Кагэбович, ведущий программы «Асфальтовый каток». Впрочем, надо укатывать, надо ровнять с землей всё на просторах этой страны, родины то есть. Зайцева облобызал троекратно.
История Иноперцева проста, как перец. Он, побывав за двумя заборами с колючкой, вышел оттуда писателем. Так ему казалось. И – с маху: зона, лагерь. Проскочило. Да с такой помпой! Впервые видел народ в журнале слово «зэк»! «Дни и ночи Барбарисыча». На этом, увы, политволна схлынула. Другое время. И более на гребне не выедешь с одной «правдой о лагерях». И текстом не взять: ни тебе ярких образов, ни тебе глубины, одни неологизмы. Их, да, навыкручивал из головы преподавателя геометрии. Но уверился скоропостижно: «Я – невероятный литературный классик!» Вон Широков, какой роман накатал – «Волжский брег»! Решив идти по стопам с мечтой переплюнуть, кропать продолжил.
Романы Иноперцева не брали. Ни «Квадрат с баландой», ни «Треугольник ужаса», ни «Барак по касательной». Ни-че-го! Так попал он под свой «асфальтовый каток», ну, и кинулся в ноги: «Дорогой Александр Емельянович! – лил слёзы Афанасий. – Я привык, что я писатель. Не хочу идти работать в школу. Там плохо: дети орут, зарплата низкая и нет славы. Помогите, навеки ваш…» Да, он стал «навеки вашим». Широков ответил: «Трудное это дело – писать книги. Найдите другое дело».
Широков умер. Осталась родня, которая не в силах его защитить.
4Зайцев-Трахтенберия мелкой «заячьей» рысью нёсся к метро Высоковольтным проездом, где столбы играют роль экзотических деревьев. Вот и станция «Отрадная». До центра пилить да пилить. Но он любит в вагоне читать, дремать и задумывать литературные исследования.
Зайцев (фамилия матери), но он гордится отцовской фамилией Трахтенберия. Отец – закройщик: «Главное, не бояться резать». Сын в отца. Как началась перестройка, примкнул к меньшинству крикливому (большинство помалкивало). Тотальная ликвидация союзов. И главного Союза Советских Социалистических республик, и писательского. Этот обезглавили. Не тех убрали, кто руководил организацией (их потом тоже поснимали), а знамя, на которое равнялись. Зайцев был на виду как режущий критик. Ему и «заказали» Широкова, чтоб освободить пьедестал для Иноперцева, которого авторы этого американского проекта, решили вернуть на коне. Не на кривой же кобыле ему, в самом деле, возвращаться!
Вынырнул из метро и пересел в лимузин. Водитель и ещё трое сличили фотографию в паспорте, и кортеж двинулся в Шереметьево-два, где и состоялась встреча будущего писательского лидера. Из аэропорта Иноперцев поехал в лимузине, скрытый шторками (белый «линкольн», как белый конь), а Зайцев опустился не только на землю, но и под неё. Вот и панельный дом, растянувшийся на квартал (жители нарекли «китайской стеной»).
В принципе всё о кэй. Например, телепередача: рядом с ведущим, недавним комсомольским мальчиком по фамилии Кагэбович, отвергнувшим своё советское прошлое, исследователь Зайцев-Трахтенберия вещал миру результат исследования. Страх был: уголовщина. За такую болтовню при нормальной власти можно угодить в ГУЛАГ. Хоть бы работодатели не кинули. Обещали переезд. Надо-надо, заждалась Канада!
Эта работёнка стартовала в один буйно-холодный вечер, когда по Северному бульвару ветер гонит бедную листву. Зайцев-Трахтенберия читает и удивляется: радость, свобода! Да, это искусство! Опомнился: «Чего это я? – Так бы спросил убийца, увидев в жертве не противного человека. – Кто будет перевозить семью в Канаду? Нормальные люди уже там!» Была столь глубокая ночь, что ему никто не ответил. Окраина. Транспорт затих. Ноги замёрзли, ветер гудит у окна, будто намерен выдавить именно твоё, а не другое стекло в «китайской стене».
Остыв, вернулся через неделю. Да, книга мировая. Но, привет, кто с этим спорит? Главное – автор. Он же нанят автора пришить, а не книгу. Книгу, ясно, пришить невозможно. Даже рукописи не горят. Кстати, о них. Ему бы никогда не заказали этого классика мировой литературы, будь у того хоть один черновик. Бумаг нет, не найдены! Но, чего не бывает, могут и всплыть! Цейтнот. Вот будешь в Канаде потягивать виски, глядя на клёны, тогда и перечитаешь этот роман с удовольствием. Теперь – в стремя! Он так и назвал статью: «В стременах и шорах быстрого течения».
Кроил не хуже портного Трахтенберии. «Папа работает», – шипела на детей жена. Главное найдено слово: соавтор. Удачные страницы созданы автором, он – талант. А слабые (в большой вещи не трудно найти неровности), соавтором. Он – бездарь, и он – Широков.
На роль «автора» примерял то одного, то другого. Остановился на неизвестном бытописателе Стукове. Подходит по годам. Не двадцать два – столько было именитому в период работы над романом. Тот немолодой. Образование – университет. Широков девять классов еле одолел. И, конечно, Стуков земляк тому. Персонажи имеют сходство. Вскоре и сам поверил: плагиат!
И всё-таки Зайцев-Трахтенберия немного трусил: а вдруг писатели начнут защищать главаря! А то и бумаги предъявят! И тогда прощай Канада, здравствуй, Воркута.
Часть вторая
1Евгения прочитала книгу «В стременах и шорах быстрого течения», где какие-то Петровы, Ивановы и Мороканские нагло уверяли, что «Волжский брег» не принадлежит Широкову. Вернее, они один за другим разрабатывали тему двойного авторства. Раскопали какого-то Дмитрия Стукова. Этот автор, немолодой, и сочинял немолодо, обстоятельно. Ни одного свежего эпитета, ни единой без штампа метафоры! Так сто раз писалось: небо голубое, река быстрая. Широков увёртывался от штампов. Его проза, как дорога, где путника подстерегают неожиданности. Будто радостно несёшься по лугам и воде среди ветра, катеров и барж. Не мог этот Стуков написать «Волжский брег»! И нет никакого «двойного авторства».
Евгения приехала к Широковым. Вдова писателя Анна Ивановна плачет, на коленях газета.
– Нет, я не могу, – говорит Шура, названный Александром по отцу: – Мама, ну, хватит, мама!
Лицо, руки Анны Ивановны и газета «Новая культурная» буквально залиты слезами. Публикация Зайцева-Трахтенберии.
– Папа, папа! – и Лада на пределе: – Ты не думал, что тебя будут грязью обливать! Мы технари! Если бы Шура был литературоведом, а я писательницей, доказали бы! Никак не пойму, как могут коллеги молчать! Не согласились выйти на демонстрацию, даже на пикет к памятнику Пушкину!
– Страх. Государственная машина против таких, как отец. Хотят настоящих писателей обезглавить. Начали с головы, – напоминает Александр.
И тут говорит Евгения:
– Когда я поднималась в бельэтаж, из квартиры Клотильды выскочил какой-то тип. Глаза разные по цвету. Старинный котелок, лайковые перчатки. Рядом МТЮЗ. Будто не переодетый актёр. От удивления пробежала ещё один лестничный марш. Он точно охотник за черновиками!
Анна Ивановна приняла валерианы и говорит:
– Опять я звонила. Милая Кло, говорю я ей, в телепередаче «Асфальтовый каток» некто Зайцев клевещет, будто автор «Волжского брега» какой-то Стуков! – Анна Ивановна растёрла левое плечо, второй день болит, – будто роман Саши плагиат! Милая Кло, говорю, ведь он вам с Ваней дал на хранение черновики. «У меня нет никаких бумаг!» И трубку швыряет! Ну, я никогда с ней не дружила. А на днях сама звонит, и – про помойку: выброс макулатуры. «Глядь, нет чемодана, в котором были черновики!» Она – к дворнику. Но – сжечь успел!
– Мамочка, – горько усмехнулась Лада, – от разговора к разговору она прибавляет подробностей!
– …которые выдумывает, – уточняет Шура.
– Мне были… голоса. Бабушка Женя и Александр Емельянович. Конечно, чуждая идеология, – на секунду смутилась Евгения. И снова взгляд твёрдый, коммунистический: – У Клотильды!
2…у Клотильды Сидоровны громко звонит телефон. Необыкновенно приятный баритон Люциферова: