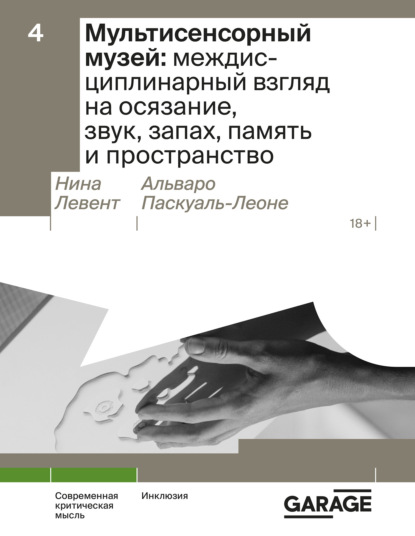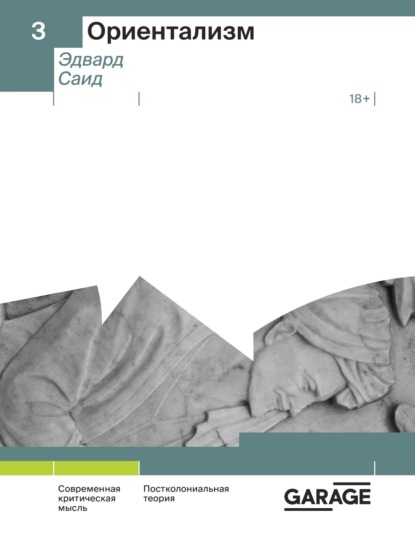Полная версия
Провинциализируя Европу
Антиколониальные демократические требования самоуправления, зазвучавшие в XX веке, напротив, во временно́м горизонте действия упирали на «прямо сейчас». Со времен Первой мировой войны и вплоть до движения за деколонизацию пятидесятых и шестидесятых годов антиколониальные национализмы опирались на срочность этого «сейчас». Историцизм не исчез с лица земли, но его «еще не» сегодня вступает в противоречие с глобальным требованием «прямо сейчас», характерным для всех народных движений за демократию. В поиске массовой поддержки антиколониальные национальные движения неизбежно вводили в сферу политического широкие классы и группы, которые по стандартам европейского либерализма XIX века не могли считаться подготовленными к политической ответственности за самостоятельное управление государством. Это были крестьяне, туземцы, полу- или неквалифицированные промышленные рабочие в незападных городах; мужчины и женщины из подчиненных социальных групп – короче говоря, все субалтерные классы третьего мира.
Критика историцизма обращается к базовому вопросу о политической модерности незападного мира. Как я более подробно покажу ниже, европейская политическая и общественная мысль как раз и создавала пространство для политической модерности субалтерных классов, прибегая к той или иной версии стадиальной исторической теории, от простых эволюционистских схем до продвинутых представлений о «неравномерном развитии». Нельзя сказать, что этот теоретический посыл начисто лишен смысла. Если политическую модерность понимать как ограниченный, поддающийся определению феномен, то имело смысл использовать его определение как линейку для измерения общественного прогресса. Внутри этого конструкта всегда можно было найти основания, чтобы сказать, будто одни нации более модерные, чем другие. Поэтому вторым требуется подготовительный период, время на ожидание, прежде чем можно будет признать их полноценными участниками модерной политики. Но ведь таким был и аргумент колонизаторов, то самое «еще не», которому национальные движения колонизированных противопоставляли свое «прямо сейчас». Достижение политической модерности в третьем мире могло происходить только через противоречивые отношения с европейской общественной и политической мыслью. Национальные элиты часто пересказывали – и до сих пор пересказывают, если это позволяют политические структуры, – своим субалтерным классам стадиальную теории истории, на которой базируются европейские идеи политической модерности. Однако в борьбе национальных движений произошло два важных изменения которые, если не на теоретическом, то на практическом уровне привели к отторжению историцистских различий между домодерным (или немодерным) и модерным. Во-первых, национальные элиты отвергли версию истории с «комнатой ожидания», когда столкнулись с тем, что европейцы используют ее как аргумент против предоставления самоуправления колонизированным народам. Вторым изменением, произошедшим в XX веке, стало полноценное вовлечение в политическую жизнь крестьянина (сначала в качестве участника национального движения, затем – как гражданина независимой страны) задолго до того, как он мог получить формальные знания о доктринальных и концептуальных аспектах понятия гражданства.
Ярким примером отказа от историцистской истории во имя национализма стало принятое сразу после обретения Индией независимости решение о всеобщем избирательном праве как основе индийской демократии. Это было прямым нарушением предписания Милля. В «Размышлениях о представительном правлении» он писал: «всеобщее образование должно предшествовать всеобщему праву голосования»[31]. Даже Индийский комитет по избирательному праву (1931 год), включавший нескольких членов-индийцев, придерживался позиции, которую можно назвать модифицированной версией тезиса Милля. Члены Комитета согласились, что, хотя всеобщее голосование взрослых было бы идеальной целью для Индии, общий недостаток грамотности в стране является огромным препятствием на пути к ее реализации[32]. И все-таки менее чем через два десятилетия Индия ввела всеобщее избирательное право для взрослых, хотя население оставалось преимущественно неграмотным. Защищая новую конституцию и принцип «народного суверенитета» перед общенациональным Учредительным собранием накануне формального обретения независимости, Сарвепалли Радхакришнан, будущий первый вице-президент Индии, возражал против тезиса, будто индийцы являются народом, еще не готовым к самостоятельному управлению страной. По его мнению, индийцы, как грамотные, так и неграмотные, всегда были способны управлять собой самостоятельно. Он заявил: «Мы не можем сказать, что республиканские традиции чужды духу этой страны. Они существовали здесь с самого начала нашей истории»[33]. Как еще можно трактовать эту позицию, если не как национальный жест упразднения воображаемого зала ожидания, куда поместила индийцев европейская историческая мысль? Нет необходимости напоминать, что историцизм продолжает жить в полную силу во всех практиках и девелопменталистских проектах Индийского государства[34]. Значительная доля институциональной активности индийских властей базируется на повседневной практике историцизма: крестьян в прямом смысле все еще обучают и развивают, чтобы они стали гражданами. Но каждый раз, когда имеет место очередная популистская/политическая мобилизация населения на индийских улицах, становится видимой одна из версий «массовой демократии», а историцистское течение времени ставится на паузу. А раз в пять лет – или чаще – народ устраивает политическое представление в форме избирательной демократии, которое отбрасывает в сторону все мысли об историцистском восприятии времени. В день выборов каждый совершеннолетний житель Индии считается индивидом, наделенным навыками для совершения ключевого гражданского выбора, вне зависимости от уровня образования.
История и природа политической модерности в бывших колониальных странах, подобных Индии, порождают напряжение между двумя аспектами положения субалтерна или крестьянина как гражданина. С одной стороны, крестьянина следует образовывать, чтобы сделать из него гражданина и таким образом вписать его во время историцизма; с другой стороны, крестьянин, несмотря на отсутствие формального образования, уже является гражданином. Это противоречие сродни тому противоречию между двумя аспектами национализма, которое Хоми Бхабха определил как педагогическое и перформативное[35]. Национальная историография в педагогическом регистре изображает крестьянский мир – с его кровнородственными связями, богами и сверхъестественным – как анахроничный. Но «нация» и политическое исполняются в карнавальном аспекте демократии – в форме восстаний, протестных маршей, спортивных состязаний – и во всеобщем праве голоса. Как именно мы мыслим политическое в те моменты, когда крестьянин или субалтерн возникает в модерной сфере политики со своими правами в качестве участника национального движения против британского правления или полноценного члена политической организации, не проведя никакой «подготовительной» работы для получения квалификации «буржуа-гражданин»?
Я должен прояснить, что, употребляя слово «крестьянин», я отсылаю не только к социологическому понятию. Я нагружаю это понятие более широким смыслом. Этот «крестьянин» фигурирует здесь как символ всех внешне немодерных, сельских, несекулярных отношений и жизненных практик, постоянно оставляющих отпечаток даже в жизни представителей индийской элиты и правительственных институтов. Крестьянин символизирует собой всё не-буржуазное (в европейском смысле) в индийском капитализме и индийской модерности. В следующем разделе я разверну этот тезис.
Subaltern Studies и критика историцизмаПроблема концептуализации исторического и политического в контексте, когда крестьянин уже стал составляющей политики, была одной из ключевых для развития исследовательского проекта Subaltern Studies[36]. Моя расширенная интерпретация слова «крестьянин» следует за основополагающими тезисами, изложенными Ранаджитом Гухой. Он вместе со своими коллегами пытался демократизировать индийскую историографию, посмотрев на подчиненные социальные группы как на самостоятельных вершителей своей судьбы. Мне представляется глубоко значимым тот факт, что Subaltern Studies были вынуждены начать с фиксации принципиального несогласия с тем пониманием «политического», как оно было изложено в воспринятой ими традиции англоязычной марксистской историографии. В ясном виде это проявилось в критике категории «дополитического», развернутой Ранаджитом Гухой в книге «Элементарные аспекты крестьянского восстания в колониальной Индии»[37].
С появлением крестьян в сфере модерной политики категория «дополитического» продемонстрировала собственную ограниченность. Дальше поставленных границ историцистская марксистская мысль не решалась пойти в ответе на вызов, брошенный европейской политической мысли с появлением крестьян в сфере модерной политики. Хобсбаум признавал специфические черты политической модерности в третьем мире. Он с готовностью соглашался с тем, что именно «обретение политического самосознания» крестьянами «сделало наш век самым революционным в истории». Однако он упустил те следствия, которые вытекали для историцизма из его собственного анализа. Действия крестьян чаще всего организовывались по линиям родства, религии, касты, и наряду с людьми в политические действия включались боги, духи и сверхъестественные существа. Однако эти действия оставались для него проявлением такого типа сознания, который не вполне стыкуется с секулярно-институциональной логикой политического[38]. Он называл крестьян «до-политическими людьми, которые еще не обрели или только начали обретать специфический язык для самовыражения. [Капитализм][39] приходит к ним извне, вероломно, посредством экономических сил, действия которых они не понимают». В историцистском дискурсе Хобсбаума социальные крестьянские движения XX века остались «архаичными»[40].
Аналитический импульс работы Хобсбаума принадлежит к той версии историцизма, которую западный марксизм развивал с момента своего зарождения. Западные интеллектуалы-марксисты и их последователи в других частях мира разработали богатый набор изощренных стратегий, позволяющих им находить доказательства «неполноты» капиталистической трансформации в Европе и на других континентах. Однако они не отказались от идеи общего исторического движения от домодерной стадии к модерности. К этим стратегиям прежде всего относится старая и ныне дискредитированная эволюционистская парадигма XIX века с ее акцентом на «выживании» и «пережитках», следы которой можно увидеть даже в текстах самого Маркса. Но существовали и другие стратегии. К ним следует отнести все вариации тезиса о «неравномерном развитии», который берет свое начало, как показал Нил Смит, из тезиса Маркса о «неравномерной степени развития» в его «Критике политической экономии» (1859 г.) и из последующего использования этого концепта Лениным и Троцким[41]. Дело в том, что как бы мы ни формулировали – «неравномерное развитие», или, вслед за Эрнстом Блохом, «синхронность и не-синхронность», или, по Альтюссеру, «структурная причинность», – все эти стратегии содержат в направлении своей мысли элементы историцизма (несмотря на декларируемую Альтюссером оппозицию историцизму). Все они приписывают историческому процессу и историческому времени как минимум структурное единство, что позволяет определять отдельные элементы настоящего как «анахроничные»[42]. Как проницательно заметил Джеймс Чандлер в своей работе о романтизме, тезис о «неравномерном развитии» идет «рука об руку» с «устаревшей шкалой однородного пустого времени»[43].
Открыто критикуя тезис о «дополитичности» крестьянского сознания, Гуха был готов предположить, что сама природа крестьянского коллективного действия в современной Индии была такова, что растягивала категорию «политического» далеко за пределы, обозначенные для нее в европейской политической мысли[44]. Сфера политики, в которой принимали участие крестьяне и их хозяева, была модерной. Ибо чем еще является национализм, как не современным политическим движением к самоуправлению? Но все-таки эта политика в логике секулярно-рациональных расчетов, свойственной модерным концепциям политики. Эта крестьянская-но-модерная политическая сфера не утратила представления об агентности богов, духов и сверхъестественных существ[45]. Социологи могут записывать действие этих сил в рубрику «крестьянские верования», но крестьяне-граждане не разделяют онтологических предпосылок, которые общественные науки принимают по умолчанию. В формулировке Гухи эта сфера принадлежала модерности, и, как следствие, политическое поведение или сознание крестьян нельзя было называть «дополитическим». Он настаивал на том, что крестьянин – это не анахронизм в модернизирующемся колониальном мире, а подлинный современник колониализма, основополагающая часть той модерности, которую породило колониальное правление в Индии. Сознание крестьян не было «отсталым» – менталитетом, оставшимся от прошлого, сознанием, сбитым с толку модерными политическими и экономическими институтами и тем не менее устойчивым к их воздействию. Восприятие крестьянами отношений власти, с которыми им приходилось сталкиваться в этом мире, по мнению Гухи, ни в коей мере не было ни нереалистичным, ни реакционным.
Разумеется, всё это формулируется не сразу и не проступает с полной ясностью, которой можно достичь задним числом. В «Элементарных аспектах крестьянского восстания в колониальной Индии» есть фрагменты, где Гуха следует общим тенденциям европейского марксизма или либерального учения. Иногда он оценивает не-демократические отношения – в ситуациях прямого «доминирования и подчинения», включающих так называемое религиозное, или сверхъестественное, – как пережитки докапиталистической эпохи, как что-то не вполне модерное и, следовательно, указывающее на проблему при переходе к капитализму[46]. Подобные нарративы часто появляются и в первых томах журнала Subaltern Studies. Я, однако, утверждаю, что эти суждения не могут адекватно отобразить радикального потенциала, свойственного гуховской критике категории «дополитического». Если бы они подходили для анализа индийской модерности, то существовали бы доводы и в пользу Хобсбаума с его категорией «дополитического». Можно было бы указать – в духе европейской политической мысли, – что категория «политического» не подходит для анализа крестьянских протестов, поскольку в докапиталистических отношениях господства сфера политического едва ли когда-нибудь отделялась от сферы религиозного и кровнородственного. Повседневные отношения власти, где важны родственные связи, боги и духи, ярким примером которых служит мир крестьянина, можно было бы тогда с полным основанием назвать «дополитическими». Все еще существующий в Индии крестьянский мир можно было бы легитимно оценивать как признак неполноты перехода Индии к капитализму. А самого крестьянина справедливо считать «предшествующим типом», без сомнения активным сторонником национализма, но на деле уже получившим от всемирной истории повестку о предстоящем вымирании.
Моя мысль, однако, следует в противоположном направлении, намеченном Гухой и его неудовлетворенностью в отношении категории «дополитическое». Крестьянские восстания в модерной Индии, по словам Гухи, «были политической борьбой»[47]. Я выделил слово «политической» в этой цитате, чтобы подчеркнуть творческое напряжение между марксистским наследием группы Subaltern Studies и более сложными вопросами о природе политического в рамках индийской колониальной модерности, которые группа начала ставить с начала своего существования. Так, изучив более сотни случаев крестьянских бунтов в Британской Индии с 1783 по 1900-е годы, Гуха показал, что практики обращения к богам, духам и другим нематериальным, божественным существам были частью отношений власти и престижа, внутри которых в Южной Азии действовали как субалтерны, так и элиты. Эти сущности не были всего лишь символами некой «более реальной» секулярной действительности[48].
Политическая модерность Южной Азии, как утверждал Гуха, соединяет две несоизмеримые логики власти, причем обе являются модерными. Первая – это логика квазилиберальных правовых и институциональных рамок, установленных в стране в результате европейского правления, рамок, которые во многих отношениях устраивали как элитные, так и субалтерные классы. Я не собираюсь недооценивать значимость этого процесса. Однако с ним переплетается логика другого набора отношений, в которые вовлечены и элиты, и субалтерны. В этих отношениях через практики прямого и явного подчинения менее сильных более сильным выстраивается четкая иерархия. Первая логика секулярна. Иными словами, она происходит из секуляризованных форм христианства, сформировавших западную модерность, и демонстрирует ту же тенденцию к выделению «религии» из пестрой смеси индуистских практик, чтобы затем секуляризировать формы этой религии, встроив их в жизнь модерных институтов Индии[49]. Вторая логика не содержит секуляризма как необходимой составляющей. Она просто последовательно включает богов и духов в область политического. (Ее следует отличать от секулярно расчетливого использования «религии», которым заняты многие современные политические партии на южноазиатском субконтиненте.) Если прочитывать эти практики как пережиток предшествующего способа производства, это неизбежно приведет нас к стадиальным, элитистским концепциям истории, вернет нас обратно к историцизму. Включение крестьян в национальные движения XX века и их превращение после обретения независимости в полноправных граждан модерного национального государства стало вызовом для политической мысли и философии. Внутри рамки историцизма историография не может иначе ответить на этот вызов.
Критика категории «дополитического», высказанная Гухой, делает историю власти в рамках всемирной модерности фундаментально более многообразной и отделяет ее от универсалистского нарратива истории капитала. Историография субалтернов ставит под сомнение предпосылку, будто капитализм обязательно приводит к гегемонии буржуазных властных отношений[50]. В рамках индийской модерности буржуазное оказывается рядом с тем, что кажется добуржуазным; сверхъестественное, не-секуляризированное существует в непосредственной близости от светского, и всё это остается в рамках политического. И дело совсем не в том, что капитализм или политическая модерность в Индии остались в состоянии «незавершенности». Гуха не отрицает связей колониальной Индии с глобальными капиталистическими силами. Его идея состоит в том, что кажущееся «традиционным» в рамках этой модерности было «традиционным только в том смысле, что его корни можно проследить вплоть до доколониальных времен. Но это понятие ни в коем случае нельзя считать архаичным и не устаревшим»[51]. И политическая модерность постепенно привела к росту и расцвету электоральной демократии, даже при том, что «обширные секторы жизни и сознания народа» избежали какой бы то ни было «[буржуазной] гегемонии»[52].
Под влиянием этого мощного наблюдения в проекте Subaltern Studies появляется необходимая, хотя местами лишь зачаточная, критика как историцизма, так и самой идеи «политического». Мои доводы в пользу «провинциализации Европы» непосредственно следуют из моей вовлеченности в этот проект. История политической модерности в Индии не может быть написана простым применением аналитики капитала и национальных движений. Мы не можем, следуя за некоторыми историками национальных движений, противопоставить историю реакционного колониализма мощному национальному движению, стремящемуся распространить буржуазное мировоззрение на остальное общество[53]. В терминах Гухи, в Южной Азии не было класса, сравнимого с европейской буржуазией из марксистских метанарративов. Не было класса, способного произвести гегемоническую идеологию, которая утвердила бы его интересы в качестве всеобщих. В более позднем эссе Гуха утверждает, что «индийская культура колониальной эпохи» не может быть понята «ни как репликация либерально-буржуазной культуры Британии XIX века, ни как пережиток предшествующей, докапиталистической культуры»[54]. Это был настоящий капитализм, но без неоспоримой гегемонии буржуазных отношений; это было доминирование капитализма без гегемонической буржуазной культуры, или, используя знаменитую формулировку Гухи, «доминирование без гегемонии».
Без радикального сомнения и переосмысления природы исторического времени невозможно ни осмыслить эту плюралистичную историю власти, ни найти место для всех субъектов политической модерности в Индии. Представления о социально справедливом будущем человечества обычно принимают как данность, как идею единого, гомогенного секулярного исторического времени. Модерной политике часто приписывают смысл истории обретения человеком суверенитета в контексте непрерывно разворачивающегося единого исторического времени. Я утверждаю, что такой подход не может служить адекватной интеллектуальной опорой в условиях политической модерности в колониальной и постколониальной Индии. Мы должны отказаться от двух онтологических посылок, вытекающих из секулярных концепций политического и социального. Первая состоит в том, что человек существует в рамках единственного и секулярного исторического времени, охватывающего все виды времени. Я утверждаю, что задача концептуализации практик социальной и политической модерности в Южной Азии зачастую требует от нас противоположных посылов. Первый – историческое время не является цельным, внутри него существуют разрывы. Второй, пронизывающий современную европейскую политическую мысль и общественные науки, состоит в том, что человек онтологически сингулярен, что боги и духи – это, в конце концов, «социальные факты». А существование социального некоторым образом предшествует их существованию. Я стараюсь, напротив, рассуждать без предустановки о приоритете социального, даже логическом. Эмпирически мы знаем, что ни одно общество никогда не существовало без присутствия богов и духов рядом с человеком. Бог монотеистов получил несколько чувствительных, хотя и не смертельных, ударов на протяжении европейского XIX века. Но боги и другие существа, наличествующие в так называемых суеверных практиках, нигде не умирали. Я считаю богов и духов экзистенциально ровесниками людей и рассуждаю, исходя из посыла о том, что вопрос бытия человека включает вопрос сосуществования с богами и духами[55]. Быть человеком в числе прочего означает, говоря словами Рамачандры Ганди, раскрывать «возможность взывать к Богу [или богам] без навязанной необходимости сперва установить его [или их] реальность»[56]. Это одна из причин, по которой я отказываюсь в своем анализе от какой-либо социологии религии.
План книгиКак теперь уже ясно, провинциализация Европы – это не отказ от европейской мысли, которой человек в значительной мере обязан своим интеллектуальным существованием. Поэтому нельзя поступать по принципу, который Лила Ганди метко назвала «постколониальной местью»[57]. Европейская мысль одновременно и необходима, и недостаточна в качестве опоры для осмысления опыта политической модерности у незападных народов. Провинциализация Европы превращается в проект по изучению того, как эту мысль, под влиянием которой мы все находимся и наследниками которой являемся – можно было бы обновить, подойдя к ней с окраин и во имя окраин.
Но окраин, как и центров, может быть, разумеется, несколько. Европа выглядит по-разному из разных уголков мира, в зависимости от конкретного опыта колонизации или ущемления. Постколониальные ученые, выступая каждый из своей колониальной географии, говорили о разных Европах. Недавние критические работы специалистов по Латинской Америке, Карибскому бассейну и Африке обращают внимание на империализм Испании и Португалии, чей триумф в качестве политических держав пришелся на эпоху Возрождения, а упадок – на конец эпохи Просвещения[58]. Вопросам постколониализма отводится значительное место в работах, посвященных изучению Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Африки и Океании[59]. Однако, какими бы сторонами ни раскрывалась Европа, каким бы разнообразным ни был колониализм, проблема преодоления европоцентричной истории остается общей для любых территорий[60].
Проблему капиталистической модерности отныне нельзя рассматривать просто как социологическую проблему исторического перехода (как в знаменитых «спорах о переходе к капитализму» в рамках европейской истории): это еще и проблема перевода. Были времена – еще до того, как наука сама стала глобальной, – когда процесс перевода разных форм, практик, представлений о жизни в универсалистские политико-теоретические категории европейского происхождения казался большинству социологов самоочевидной задачей. Какая-то аналитическая категория – например «капитал», – мыслилась как выходящая за пределы того фрагмента европейской истории, в котором она появилась. В лучшем случае мы довольствовались осознанно «грубым» переводом, считая его адекватным познавательной задаче.