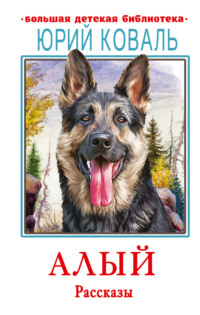Полная версия
Суер-Выер и много чего ещё
– Мы свидетели, можем подтвердить, – подтвердил старпом.
– Действительно, это сверхрекорд, – согласился Покинутый, – но установил-то его не Я, а ТОТ Я, который убежал! О горе мне! Горе!
О горе мне!
Я так себя хреново вёл, что сам от себя убежал!
Кураре! Кураре! Кураре!
Гдэ ведре кураре???
Стакан курара! Стакан курара!
Вы не знаете, где растут бледные поганки? Подскажите адресок!
– Ты чего орёшь? – послышался вдруг знакомый голос, и ТОТ Я, КОТОРЫЙ УБЕЖАЛ, высунулся из-за скалы.
– А что? – удивился Я ПОКИНУТЫЙ.
– Орёшь, говорю, чего?
– Да как же мне не орать-то? Ты-то Я убежал!
– Вести себя надо было лучше, а то пил как лошадь, воровал, попрошайничал, двоежёнствовал, не платил алиментов, жил по поддельному паспорту, ночью поедал чужую сметану, обманывал маму!
– Вернись! Я буду лучше! Мне ведь ничего не надо, кроме тебя! Мне даже деньги предлагали, и я не взял! Мне только тебя нужно! Только тебя! Вернись ко мне, мой дорогой Я!
– Деньги? Какие ещё деньги?
– Целковый.
– И ты не взял?
– Не взял, – гордо ответил Покинутый.
– Вот всё-таки дурак! Как был дураком, так и остался! Гордость заела! Бери, пока не поздно, да проси побольше, дубина стоеросовая! Тогда, может, и вернусь!
– Извините, господа и сэры, – обратился к нам Покинутый с поклоном, – тут этот Я УБЕЖАВШИЙ обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте Христа ради!
– Христа ради? – удивился Суер, вспоминая, видно, недавнюю нашу распрю. – Это уж ради примирения вас с самим собою.
– Почему же не Христа ради? Господу, может, угодно такое примирение?
– Тогда уж примиряйтесь бесплатно. Впрочем, вот целковый.
– Маловато, сэр, – почесал в затылке Покинутый. – Боюсь, Я УБЕЖАВШИЙ не вернётся. Погодите, я покричу. Эй, ты, Я УБЕЖАВШИЙ! Эй! Тут дали целковый!
– Не, – отвечали из-за скалы, – не вернусь.
– Вертайся, хватит!
– Да ну тебя, дурака слабоумного, и просить-то толком не умеешь.
– Вернись же, вернись! Хочешь, я курить брошу?
– Да ну, ерунда, враньё, силы воли не хватит.
– И пить брошу, клянусь!
– А это ещё зачем?
– А что, не надо?
– Пей, но в меру. Но главное – денег проси, иначе не вернусь. Поеду в Мытищи, у меня там баба знакомая.
– Это Людка, что ли?
– Вспомнил наконец, тоже мне…
– Так её ж посадили!
– Да не её, дурак, сына посадили, Боряшку! Ну и папаша! Всё! Пока! Уезжаю в Мытищи! Ты не помнишь, когда уходит последняя электричка?
– Сэры! Сэры! – рыдал Покинутый. – Умоляю… Добавьте же… прошу…
– Сколько же надо? – начиная раздражаться, спросил капитан.
– Эй, ты, Я! – крикнул Покинутый. – А сколько надо?
– Бери червонец, за меньшее не вернусь!
– Вы слышали, сэры? Червонец!
– Прямо не знаю, – сказал капитан, – у кого из нас есть на червонец жалости? Может, у вас, старпом?
– Чего? – удивился Пахомыч, в некоторых ситуациях сильно напоминающий господина боцмана. (Подчеркнём – в некоторых.)
– Жалости на червонец есть?
– Жалости много, – отвечал старпом, – а червонца нету. Пусть берёт чистую жалость, бесплатно. Между прочим, в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году моя жалость на чёрном рынке в Неаполе кое-кому дорого обошлась.
(Тут мы должны отметить, что на такую сложную жалость боцман всё-таки не тянет.)
– А вы, лоцман?
– Видите ли, сэр, – отвечал лоцман, оправляя галстук-бабочку в клеточку, – видите ли, сэр… видите ли, дорогой сэр… Конечно, вы видите, уважаемый сэр, что этот, с позволения сказать, чэловэк уже имеет два целковых, разделённых как раз поровну между частями особи. Одна часть особи, убежавшая, имеет ещё и гривенник старпома, то есть неоспоримое преимущество. То есть мало того, что она убежала от самоё себя, у неё ещё и на гривенник больше. Предлагаю всё-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшейся пятак.
– С Гоголя получишь! – послышалось из-за скалы. – Тоже нашёлся утопический социалист. Кто это и когда делил всё поровну? Ха!
– У юнги денег нет, – сказал капитан сэр Суер-Выер и ласково поглядел на меня, – остаёшься ты, друг мой. – В ласке зазвучала ирония. – Что ты скажешь, голубь дорогой? До сих пор ты подавал подаяние. Мы не рассматривали, что это за подаяние. Подаяние и подаяние. Что ты скажешь сейчас? Может, добавишь гривенник?
Я так и знал, что всё это дело с нищими до особого добра не доведёт.
Глава LXX
Камень, ложка и чеснок[17]
– Прежде всего, кэп, – сказал я, – прежде всего: никто не имеет права анализировать подаяние. Кто что подал, то и подал. Меня, например, вполне устраивает открытый лоцман, щедрый капитан, разумный старпом. Что подал я – моё дело. Я никому не подотчётен. Подаяние – и всё! И привет! И пока! И до свиданья! Прошу отметить, что все были мною довольны и даже приговаривали: «Спаси вас Господи!» Но если вас интересует, кому я что подал, могу сказать:
Древорукому – камень,
Пеплоголовому – деревянную ложку,
Нищему духом – головку чесноку.
Человеку, который убежал от самого себя, я тоже подал подаяние. Вы заметили? Это небольшой кисет. По-моему, он так и не поинтересовался, что в кисете. Эй, любезный господин Покинутый, а где кисет, который я подал? У вас того, что убежал, или у вас того, что остался?
– У меня. Тот Я только деньги взял, а кисет, говорит, тебе оставлю. Кури!
– Загляните же в кисет.
– Чёрт-те что, – сказал Покинутый, развязав кожаную тесёмку. – Махорка, что ли? Или нюхательный табак? Порошок какой-то. Что же это?
– Неужели не догадываетесь?
– Никак не смекну. Надо понюхать.
– Погодите, не спешите нюхать. Это кураре! Толчёное кураре! Здесь как раз хватит: понюхал – и… Вы, кажется, просили?
– Что это значит? – сказал Суер-Выер. – Ты с самого начала знал, чем всё кончится?
– Конечно нет. Мне и в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, согласитесь, выбежать из самого себя – это действительно редчайший случай. Но кураре! Кураре ведь может пригодиться в любом из вариантов: убежал или не убежал, а кураре-то – вот, пожалуйста! Тому, кто хочет убежать от самого себя, кураре – хороший подарок.
– Да-а, – протянул Суер. – Но как ты истолкуешь камень, ложку и чеснок?
– Дорогой сэр! – отвечал я с поклоном. – Я уже и так не в меру разболтался. Камень, ложка и чеснок – предметы достойные. Их можно толковать как хочешь и даже сверхзамечательно. Я могу истолковать, но дадим же слово самому молчаливому. Пусть истолкует юнга Ю. У него нет денег, но есть некоторый хоть и детский, но симпатичный разум. Прошу вас, господин Ю.
Тут юнга открыл было рот, но в дело неожиданно влез Покинутый сам собою.
– Погодите, господа, – сказал он. – Какой камень? Какой чеснок? Тут воссоединение вот-вот произойдёт, а вы бог знает о чём толкуете. Давайте же скорей червонец, а то убежит, свинья такая!
– Слушай, помолчи, а! – сказал старпом. – Помолчи, потерпи.
– Что там происходит? – крикнул из-за скалы Бежавший.
– Хрен их поймёт! Про чеснок толкуют. А мне яду дали.
– Чесноком не бери! А много ли яду?
– Да всего мешочек. Короче, полк солдат не отравишь, но на одного полковника хватит. А денег не дают.
– Ну ты хоть корчился в муках-то?
– Замучился корчиться. Такие судороги отмочил да железные конвульсии, а всё равно не дают.
– Во жлобы какие приехали! Они что, из Парижа?
– Да вроде из Москвы, говорят.
– Ага, ну понятно.
– Эй, вы, РАЗБЕЖАВШИЕСЯ! А ну-ка молчать! – гаркнул старпом. – Цыц! Нишкни! Помалкивай! Где Чугайло? Сейчас позову! Юнга, говори!
Разбежавшиеся приутихли, особенно этот, что остался, тот, за скалой, ещё немного хорохорился, но на всякий случай заткнулся.
– Человеку с деревянной рукой – камень? – спросил юнга. – Я думаю, это просто. Скорей всего, точильный камень – точить стамески для резьбы по дереву. Пеплоголовому – ложку! Отметим: деревянную. Ему не хватало пеплу. Ложку можно сжечь – и пригоршня пепла налицо! Нищему духом – головку чесноку. Это тоже просто. Если он съест чеснок – духу не прибавится, зато появится запах. А запах, как известно, в некотором роде замена духу. Во всяком случае, ему вполне можно будет сказать: «Фу! Фу! Какой от тебя дух идёт!» Довольны ли вы таким объяснением, господин мой?
– Вполне, – ответил я, рассмеявшись от всего сердца. – Это шикарное объяснение. Оно мне, признаться, и в голову не приходило. Камень-то я дал довольно-таки тяжёлый, это вместо гнёта, чтоб на крышку давить, когда капусту квасишь, ложку подал в двух смыслах: суп есть и пеплом главу из неё посыпать, к тому же как напоминание о родной нашей России – ложка-то резана в окрестностях села Ферапонтова, а головку чесноку подал потому, что мне-то самому чеснок вреден, язва от него разыгрывается.
– Ха-ха! – делано сказал капитан. – Это всё враньё! Болтовня! Фиглярство. Все подаяния имеют глубокий философский смысл: камень – символ вечности, ложка – символ духовной пищи, чеснок – символ жизненной силы.
– Ну что ж, капитан, – сказал я, – вы великий человек, вам и видней. Убеждён, что вы сумели бы истолковать всё, что угодно, даже если б я подал нищим перо ветра и стакан тумана.
Глава LXXI
Перо ветра
Не перо ли ветра коснулось мимолётно моей щеки и всё вокруг преобразилось?
Пронзительно зазвучало
глубокодонное небо,
золотым ободом изогнулся песок,
косо встали к небу
люди и кипарисы,
всё удалилось и замерло навеки.
(Нет-нет, всё двигалось по-прежнему: и волны набегали,
и люди шевелили губами,
и облака плыли,
и пыль клубилась облаками,
и чайка свистела крыльями,
и падал Икар,
и мышь бежала,
но всё равно ВСЁ замерло даже в этом движении.)
И всё стало пронзительно, ясно и вечно.
И всё не так, как за секунду до этого.
И уже совершенно не волновали ни червонцы, ни бегство от себя, ни эти несчастные, прости меня, Господи, нищие!
Перо ветра?
Оно?
Да!
Оно!
Оно свистнуло и овеяло наши лбы,
рассыпало мысли,
просветлило взор,
прошептало запах детства.
Вспорхнуло? Скользнуло? Пропало?
Улетающее перо ветра?
Нет! Нет!
Постой! Погоди! Не улетай так быстро!
Побудь ещё на щеке, ведь ты важнее всего!
Пусть всё так и стоит колом и косо по направлению к небу, пусть движется, замерев.
Какое же это счастье – ясность в душе!
Господи! Спаси и сохрани всех страждущих, бегущих, блуждающих впотьмах, слепых детей своих, не ведающих, что ведают счастье!
Спаси их, Господи, а мне…
а мне…
– Ну что? Ну что тебе? Что?
– Пахомыч, друг! Стакан тумана!
– Да вот же он! Пей!
Я вздохнул залпом.
Захлебнулся.
Задохнулся.
Помер.
Снова помер.
Ожил, помер, вздохнул, замер.
Забился, помер, огляделся вокруг.
Всё так и стояло колом и косо, и солнце, и тени густые – ух! берлинская лазурь, я вот тебе! – крон ещё хрен жёлтый, творёное золото – и киноварь,
киноварь,
киноварь.
С какого тебя дерева содрали?
– Туману, Пахомыч, туману! Я так и знал, что этот остров не доведёт до добра! Туману же дай!
– Да вот же он! Пей!
– Туману! Туману! Туману! Чтоб ясность была!
…
…
…
…
…
…
– А что касательно червонца. Как видите, милостивый государь мой, отчего-то никто не даёт!
– Сэры, сэры! Может быть, скинетесь? Людка, Боряшка, лименты.
– Да вы сами видите, у нас друг туману требует. Видимо – солнечный удар. Нам нужно срочно на корабль.
– Сэр! Последний трюк! Клянусь, этого никто не умеет делать! Я сейчас сойду с ума! Понимаете? Отделю от себя свой ум, вспрыгну на него, как на пирамиду, и по ступенькам, по ступенькам вниз, вниз, вниз…
– Не надо, – прорвался я, оглядывая стоящий колом мир и звук в нём, – не надо… вот червонец… с ума сходят всё время и без пирамиды и ступенек… а этот убежавший пусть вернётся. Только поскорее… червонец за то, чтоб мне не смотреть. Ясно? Закрываю глаза! Бери червонец.
Я закрыл глаза и почувствовал, будто перо ветра смахнуло монету с моей руки.
Потом что-то шелестело, хрустела галька, сипел песок, но я не открывал глаз, пока Пахомыч не сказал:
– Сошлися!
И я открыл глаза.
Перо ветра, конечно, улетело.
Пальмы брякали кокосами.
Нищие тянули руки.
Суер раздавал червонцы.
Я шёл к шлюпке.
Глава LXXII
Стакан тумана
Ух, какое огромное облегчение почувствовал я, когда мы наконец отвалили от этого тяжелейшего острова. Гора с плеч!
И матросы гребли повеселее, и Суер глядел в океан платиновым глазом, лоцман Кацман отирал просоленный морем лоб, Пахомыч споласкивал гранёный стакан, перегнувшись через борт.
– Слушай-ка, Пахомыч, – сказал я, – откуда у тебя туман-то взялся?
– Туман у меня всегда при себе, – отвечал старпом, доставая из внутреннего жилетного кармана объемистую флягу (так вот что у него все время оттопыривалось! А я-то думал – Тэтэ!). На этикетке написано было «ТУМАН», 55 копеек:
Т – трудноусвояемый
У – умственноудушающий
М – моральноопустошительный
А – абалдительный
Н – напитк.
– Напитк? – утомлённо переспросил я. – А «О»-то куда подевалось?
– А «О», господин мой, вы как раз и выпили, находясь в состоянии помрачения. Не желает ли кто распить и остальные буквы?
– Можно, – сказал Суер. – Немножечко «А». Тридцать пять грамм, на самое донышко.
– А мне «ЭН», – согласился и лоцман. – На два пальца.
– А вам, юнга?
Юнга промолчал. Он вообще как-то поник, замолк, иссяк.
– Что с вами? – ласково спросил старпом. – Нездоровится? Глоток тумана вполне поможет. Это проверено.
– Я здоров, – отвечал юнга, – но немного расстроен. Дело в том, что там на острове – мой бедный папа.
– Там? Папа? И вы промолчали?
– Растерялся… Да и вы были слишком заняты туманом и этим бегством от самого себя.
– Что же теперь делать? – спросил Суер, оглядывая нас. – Возвращаться?
– Не обязательно, – сказал юнга, – я только посмотрел на него, и достаточно.
– Но вы уверены, что это ваш отец?
– Конечно, сэр. Вот его портрет, всегда при мне, – и юнга достал из-за пазухи золотой медальон, на котором изображён был человек вроде бы с усами, а вроде бы и без усов.
– Не пойму, – сказал старпом, – с усами он или без.
– Вот это-то и есть главная примета, – отвечал юнга. – Мне и мама всегда говорила. Главная примета папы: так это не поймёшь – с усами он или без.
– Надо возвращаться, – сказал капитан, – всё-таки должен же сын поговорить с отцом, тем более с такою приметой. Дело за тобой, друг мой, – и капитан глянул мне в глаза, – в силах ли ты вернуться?
– Я не в силах, – отвечал я, – но и не вернуться тоже нельзя. Ненавижу этот остров, но потерплю, Пахомыч, друг, ещё хоть полстакана.
Глава LXXIII
Сидящий на мраморе
Нашим возвращением островитяне были потрясены не меньше, чем крепдешином в небе.
Действительно, ведь так же не бывает: подающий подаёт, проходит мимо и обычно не возвращается. А тут вдруг вернулись. Да неужто целковые раздавать?
Не раздавая, однако, никаких целковых, ведомые медальоном, мы просекли строй нищих и подошли к мраморному камню, вокруг которого собрались особо грязные и жалкие собиратели подаяний. Они однообразно скулили:
– Подайте кто сколько может… Подайте кто сколько может… Подайте кто сколько может…
кто сколько может…
сколько может…
На мраморном же камне сидел человек, который эту фразу, отточенную веками, трактовал иначе:
– Подайте кто сколько НЕ МОЖЕТ.
Такой поворот идеи несколько обезоружил нас, и лоцман даже забормотал:
– Да как же так, ребе, откуда же мы возьмём?
– Действительно, – поддержал я Кацмана, – скажите, равви, как это я МОГУ подать столько, сколько НЕ МОГУ?
– Очень просто. Рубль вы можете подать?
– Могу.
– А двадцать?
– Ну, могу.
– Без «ну», без «ну», дорогой благодетель.
– Могу, – сказал я, скрипя зубами.
– И без скрипенья зубов, пожалуйста.
– Пожалуйста, – сказал я, убрав скрипенье. – Вот двадцатка.
– Э, да двадцатку вы можете, а я прошу – сколько не можете.
– Это сколько же?
– Да я-то откуда знаю? Ну, скажем, сотню.
– Куда? Чего? Это уж вы хватили. Сотню… да я и денег-то таких в глаза… нет, никак не могу…
– Ну а если поднапрячься?
– Нет.
– А если дико-дико перенапрячься?
– Нет, нет и нет!
– А вы в глубину-то души загляните. Загляните и поглядите – чего там, в глубине-то вашей? Есть ли сотенка?
Повинуясь какому-то магнетизму, исходящему от этого человека, я действительно заглянул в глубину своей души и нашёл там, прости меня господи, парочку сотен. Доставать их, конечно, не хотелось, но тогда чего я, как дурак, ввязался в эту философию?
– Могу, – сказал я. – Пару сотен могу, но уж не больше.
– А тыщу?
– Ну, это уж вы вообще… откуда? Тыщу чего? Рублей? Долларов? Пиастров?
– А если б ты всё продал? – ввязался неожиданно лоцман Кацман. – Набрал бы небось тыщонку.
– Дружба с вами, лоцман, стоит значительно дороже, – обиделся я. – Вопрос: кто даст такие деньги?
– Я не дам, – сказал капитан и развёл нас с лоцманом мановением пальца. – Позвольте теперь и мне задать вопрос. Я прекрасно понял фразу: подайте кто сколько НЕ МОЖЕТ. В этом, наверно, и есть смысл истинного подаяния. Но – бывало ли такое? Подавал ли вам кто-нибудь? Получали ли вы просимое?
– Бывало, подавали, получал, – кратко ответил сидящий на мраморе.
– Часто?
– Примерно раз в два года.
– И что это за люди, подающие столько, сколько НЕ МОГУТ?
– Вполне достойные люди.
– Но всё-таки: возраст, пол, образование?
– Всякий раз это уникальный случай, – уклончиво отвечал сидящий на камне.
– Ну расскажите же, это так любопытно.
– В каждой профессии есть свои секреты, – усмехнулся сидящий на мраморе. – А потом, вы как будто из комиссии по расследованию. Приплыли на своём «Лавре», испоганили небо крепдешином, да ещё рассказывай, кто мне сколько подаёт. Скажу одно: тот, кто слышит мою просьбу о подаянии, всегда задумывается о своих возможностях, как умственных, так и морально-материальных. Всё!
И сидящий на мраморе прикрыл очи.
– Нет, не всё, – парировал вдруг Пахомыч. – У нас есть ещё вопрос, очень и очень важный. А именно: нам бы хотелось знать, С УСАМИ вы или БЕЗ?
Глава LXXIV
Усы и невозможное
– А вы что ж, сами не видите?
– Видим. Но толком не разберём. То вроде бы с усами, то вроде нет.
– В этом-то весь фокус, – улыбался сидящий на мраморе. – А то чего уж проще: отпустил усы и ходишь как дурак, а ребятишки и вопиют: «Эй, усатый-полосатый!»
– Конечно, это фокус, – сказал Пахомыч, – но для чего он? Кому нужен такой фокус? Скажите же всё-таки: С УСАМИ вы или БЕЗ?
– Если я скажу, что я БЕЗ, вы начнёте спорить, что я С усами, так что я предпочту на ваш вопрос ничего не отвечать.
– Не понимаю, – сказал старпом, – почему бы точно не определиться и не заявить прямо: да, я усатый, или ладно – безусый. Вы как будто скрываете свои приметы. Вы что – в розыске?
– Ей-богу, ребята, – сказал Ложноусый, обращаясь к нищей братии, восседающей вокруг мраморного камня, – они из комиссии Огепеучека. Да ни от кого я не скрываюсь! Я честный нищий! А с усами я или без усов – сами разбирайтесь!
– Вы знаете, что мне кажется, сэр, – негромко сказал лоцман Кацман, обращаясь к нашему великому капитану. – Мне кажется, что усы у него растут чрезвычайно быстро, поэтому он их ежесекундно сбривает.
– А зачем? – резонно спросил Суер.
– Если бы не сбривал – они заполонили бы весь земной шар.
– Ерунда, – сказал Пахомыч, – он скрывается. Прячется на этом острове нищих. Прячется от ответственности. Вы же сами понимаете, что среди нищих спрятаться легче всего. Это старый приём всех мошенников – притвориться нищим. А фокус с усами – это полная чепуха, иллюзион. Вы смотрите, как он часто чешет нос. Почешет разик – он с усами, почешет другой – без усов. Усы у него из рукава выскакивают. На резиночке.
Пахомыч до того твёрдо долбил своё, что нам даже стало за него неловко. Твердолобый получался у нас старпом. Идея лоцмана была, конечно, тоньше и глобальней, имела исторические корни.
– Усы на резиночке и просьба подать невозможное как-то не вяжутся между собой, – сказал капитан. – Философия и примитив в одной упряжке. Нет. Этого не может быть.
– Может, может, – долбил Пахомыч. – Абсолютный примитив и в том и в другом случае. Сплошная трусость и самореклама. Обман.
Сидящий на камне между тем весьма внимательно прислушивался к нашему разговору.
– Это просто удивительно, – сказал наконец он, – насколько тонок и умён ваш лоцман и какой дубовый старпом. Ну зачем, скажите на милость, мне скрываться? От кого? От чего?
– Дуб? – переспросил Пахомыч. – Я – дуб? А вы тряхните рукавом, и желательно на лоцмана.
– Не стану я тресть, чего ради?!
– Ради усов, которые в рукаве прячутся!
– Да нету там никаких усов.
– Ага! Сдрейфил! Подайте ему НЕВОЗМОЖНОЕ! Ишь какой обормот! Тряси рукавом, показывай свои усы, бестолочь!
– Это я-то трус? Да пожалуйста! Где ваш лоцман?
И тут сидящий на мраморе взмахнул руками, и на лоцмана посыпались самые невероятные предметы, ну во-первых:
куриные косточки,
а во-вторых: таблетки от алкоголизма,
кнопки, колготки, клизмы,
розетки, зажигалки, резеда,
мастихин, мормышка, штопор-открывалка,
папка, две кисточки и к ним акварель.
Но надо твёрдо отметить, что усов среди всего этого никаким образом не было. Была какая-то штука, которую мы попервоначалу приняли было за усы, но это оказалась волосяная хреновинка для бритья.
– Ну, что скажете? – воскликнул Ложноусый. – Где же усы? Ха!
– Я не знаю, где вы прячете усы, – угрюмо сказал старпом, – но что вы скажете на это, гражданин хороший?
И старпом предъявил Врядлиусому золотой медальон, который юнга сдал ему на хранение.
Глава LXXV
Как было подано невозможное
– Что это? Что это? Что это? – побледнел Псевдобезусый. – Откуда? Откуда?
– Ага! Припёрли к стенке! – воскликнул старпом. – Вот от чего ты скрываешься, паскуда! От уплаты алиментов! А вот и сынишка, которого ты бросил, а я подобрал. Пою, кормлю и воспитываю! Вот тебе НЕВОЗМОЖНОЕ прямо в харю!
И старпомыч выпятил юнгу из нашей среды под нос мраморному камню.
Надо сказать, что мы никак не ожидали, что Пахомыч расхамится до такой степени. Но, видно, этот остров подействовал ему на нервы, как и всем нам. Мы не стали спорить, кто кого кормит и воспитывает, а просто наблюдали за продолжением действия. Впрочем, для наблюдений особой пищи не было.
– Папа! – шепнул юнга.
– Сынок, – прослезился Усопятый. – Как там мама?
– Сам не знаю.
– Неужели всё так же сидит?
– Сидит, а чего ей ещё делать?
– Вот и я сижу. А ты?
– Чего я?
– Сидишь или нет?
– Редко. Я вон плаваю.
– Конечно, это лучше, чем сидеть.
– А ведь многие кто где сидит.
– Ничего, сидят, терпят.
– Вот и мама сидит.
– Отойдём в сторону, – сказал Суер-Выер, – не будем мешать. В душе у них происходит больше, чем на словах.
– Но на словах тоже кое-что произошло, – упрямился старпом. – Пусть алименты гонит! Ничего не даёт на сына с самого рождения. Зачал – и пропал в тумане.
– Да что вы, старпом, – сказал капитан. – Что он даст? Он-то не может подать сколько НЕ может. Болтовня ведь одна.
К этому моменту у юнги с папашей нарос уже в душе большой ком идей, чувств и мыслей.
– Сэр! – обратился к капитану Антибезусый. – Подайте же мне столько, сколько НЕ можете. Возьмите меня на корабль.
– Я? На корабль? На какой?
– На «Лавра Георгиевича».
– И вы считаете, что я этого НЕ могу? – засмеялся капитан. – Это я как раз МОГУ.
– Сэр, я тоже прошу, – потупился юнга. – Нам жалко расставаться.
– А вы оставайтесь на острове, – предложил Суер. – Здесь неплохо… мрамор… сдержанные субтропики.
– Да ведь я и к вам как к родным привязался.
– Я бы взял вашего папашу, – строго сказал капитан, – да боюсь, что боцман Чугайло каждое утро будет подавать ему столько, сколько НЕ может! Он у нас умеет превзойти самого себя.
– Сэр!
– Вот вам рубль, юнга. У вас, как известно, нет ни гроша. Берите этот рубль и выполните просьбу нищего. Подайте сколько НЕ можете.
Юнга поклонился, принял рубль и передал отцу.
Лжеусый печально подкинул монету в небо, поймал, поглядел и протянул старпому.