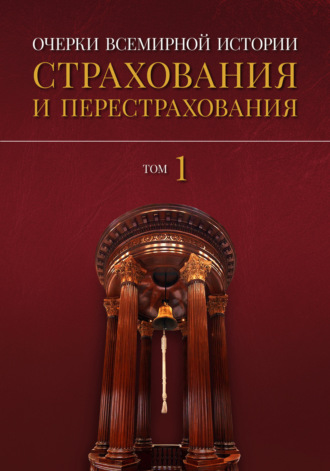
Полная версия
Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века
Членство каждого из этих обществ отличалось значительно как по размеру вступительных взносов и подписок, так и по предоставляемым услугам. Некоторые из этих обществ в дополнение к допуску в свои члены лиц, которые полностью квалифицировались как рядовые, оркестранты и т. п., принимали и tirones (рекрутов или студентов), и в этой связи они были похожи на торговые гильдии (collegia), которые также допускали в свои ряды учеников. Студенты обладали определенными привилегиями. Они могли оплачивать свой вступительной взнос полностью либо частично и по выбору оплачивать аналогичную пропорцию ежемесячных подписок. Соответственно, они имели право пользоваться услугами членства пропорционально сумме оплаченной подписки.
Рассмотрим эти общества более детально на примере коллегии «College of Cornicines[83] at Lambœsa» (древний город-государство Ламбоуса или Ламбеза на Кипре).

Корнисин (младший офицер римской армии)
Это общество, которое состояло из 36 членов, работало по следующим направлениям.
При вступлении каждый полноправный член был обязан оплатить вступительный взнос в 750 динариев, а каждый новобранец или рекрут сумму поменьше. Вероятно, что с каждого члена также взимался ежемесячный сбор.
Член общества при переводе в другой легион по морю мог получить, будучи пехотинцем, 200 динариев, а кавалеристом — 500 динариев. Это правило предписывало, что каждый член должен получить 200 динариев, и что аналогичная сумма должна была выплачиваться каждому члену на случай его возвращения.
Члены коллегии, которые становились ветеранами, получали 500 динариев в качестве nomine anularium (именное пособие при выходе из общества или коллегии).
Каждый член, который повышался в звании, получал 500 динариев.
В случае смерти члена общества его наследник или агент получал 500 динариев.
Любой член коллегии, который увольнялся со службы, получал 250 динариев.
Scamnarium (сумма для вступления в общество) включала в себя вступительный взнос в размере 750 динариев. Правда, сомнительно, что уплата этого взноса исчерпывала финансовые обязательства членов общества, либо с них взимались дополнительно периодические сборы. Ясно лишь то, что большинство, если не все, гражданских обществ назначали ежемесячные сборы в дополнение к вступительному взносу и прекращали членство тех, кто не оплачивал их своевременно. Известный французский историк-антиковед Р. Канья (Réné Cagnat) придерживается мнения, что scamnarium состояла из двух частей: (1) вступительный взнос и (2) ежемесячные сборы[84].
Что касается услуг, то здесь более-менее все понятно, однако, следует заметить, что выплата 500 динариев в случае смерти члена общества должна была производиться наследнику или агенту, и что нет ссылки на то, как это должно было осуществляться. По мнению Ч. Ф. Треннери, маловероятно, что рядовой солдат, который получал сравнительно большую сумму денег для использования ее по своему усмотрению, сохранял ее на похоронные нужды, потребность в которых могла наступить много лет спустя, а трата таких денежных средств по своему усмотрению позволяла ему еще и зарабатывать на жизнь. Когда младший офицер или унтер-офицер умирал на службе, выплата тратилась на его погребение, однако, по большей части член общества покидал его через несколько лет по разным причинам, и нельзя было допустить, чтобы он терял из-за этого все свои пожертвования на похоронные цели, поэтому ему, живому выплачивали сумму, на которую он бы имел право в случае своей смерти[85].
Далее, следует помнить, что закон более тщательно оберегал имущество и права солдат по сравнению с гражданскими лицами. Не забывая о том, что солдат уходил с действительной службы в запас в возрасте 46 лет и в большинстве случаев нуждался в заработке на жизнь, вполне вероятно, что деньги, получаемые ветеранами, нередко вкладывались в какое-нибудь дело или имущество, что позволяло им зарабатывать на жизнь нежели тратить на вступительный взнос в похоронный клуб.
Поскольку существовали общества, членство в которых частично либо всецело касалось ветеранов, можно допустить, что во многих случаях демобилизованный солдат действительно вступал в похоронное общество и, предположительно, платил сумму, которую он получил по увольнению со службы.
Позиция tirones (рекруты), о которой речь шла в последнем абзаце правил, весьма интересная. Они имели право на услуги, если платили в казну определенную сумму, при этом право на услуги начинало действовать со дня уплаты ими необходимой суммы. Правда, из уставных документов неясно, должны ли они были уплатить вступительный взнос либо только периодические сборы. В уже упоминавшемся ранее «Corpus Inscriptionum Latinarum» («Свод латинских надписей») встречается фраза «item discentib(us) pro proport(ione) scamnari sui (sestertios) m(ille) n(ummos)» — «также новобранцы выплачивают за обучение тысячу сестерций собственных денег пропорционально своим денежным средствам в виде scamnari», которая показывает, что рекруты или новобранцы могли уплачивать либо часть вступительного взноса (или часть всего сбора, т. е. вступительный взнос плюс периодический сбор в зависимости от значения слова scamnarium) и имели право получать услуги в пропорции, соответствующей размеру их фактического взноса.
Ветераны, увольнявшиеся с действительной службы, должны были получать 500 динариев в качестве nomine anularium (именное пособие при выходе из общества). Аналогичные выплаты, но в размере 6 000, осуществлялись квестором (казначеем) 1 января согласно правилам коллегии «College of Optiones» (Коллегия помощников центурионов) выходящим из нее ветеранам.
Что касается пропорций услуг к сборам, то в уже упоминавшейся коллегии «College of Cornicines» вступительный взнос составлял 750 динариев, а компенсации (кроме тех, которые выплачивались ветеранам) варьировались от 200 до 500 динариев, отсюда можно сделать вывод, что, вероятно, вступительный взнос был достаточным для осуществления таких выплат. Предположив, что этот ежемесячный сбор имел такую же пропорцию к вступительному взносу, как и в гражданских обществах, и взять за среднюю ставку единицу, применявшуюся в уже упоминавшейся Ланувийской коллегии Дианы и Антиноя, а именно, 1,25 %, ежемесячный сбор в «College of Cornicines» для каждого члена составлял бы 9 динариев.
Военные общества в дополнение к взаимопомощи и услугам, оплачиваемым в случае конкретных событий, предназначались для оплаты определенной суммы в случае смерти их членов, если они умирали в определенный период, а если они доживали до определенного срока, они могли рассчитывать на выплату фиксированной суммы либо оплаты аннуитета до смерти бенефициара. Первый вариант напоминает современное страхование на дожитие до 46 лет и аннуитет, первая выплата по которому производилась в среднем при достижении 46,5 лет.
Конечно, невозможно утверждать определенно, что нет данных, что гражданские общества предоставляли аналогичные услуги. Можно все-таки предположить, что они оказывали некоторые из этих услуг. Однако, поскольку в 3-м веке н. э. правительство распорядилось признать военные общества противозаконными, хотя к армии относились более снисходительно или терпимо, чем к гражданским образованиям, ясно, что, если какое-либо гражданское общество предоставляло аналогичные услуги своим членам, оно делало это скрытно от властей. Отсюда следует, что в уставах этих гражданских обществ не было ссылок на подобные выплаты, а потому и нет официальных свидетельств.
Иные формы страхования жизни. Свидетельство того, что римляне использовали ограниченную форму страхования жизни, по крайней мере, со 2-го века н. э., состоит из статутных положений, содержавшихся в римском гражданском праве. Самое раннее из них относится к уже упоминавшемуся Гаю Светонию Транквиллу около 150-го года н. э., а самые поздние к времени византийского императора Василия I Македонянина (Basil I Makedonian) около 900-го года н. э. Эти положения подтверждают, что действовали определенные договоры, которые были прототипами полисов страхования жизни. Вполне правомерно утверждение, что некоторые из них явились основой для современных договоров страхования жизни.
В то же время оснований для однозначного вывода об этом нет — не представляется возможным точно сказать, идет ли речь именно о договоре страхования жизни, но при этом можно предположить, что такой договор более подходил для страхования жизни, чем для чего-либо иного. Можно также допустить, что они использовались в связи с делами о наследстве, возвратом приданого в случае смерти замужней дочери и т. д.
Наиболее обстоятельно эти вопросы исследованы С. Ф. Треннери. Например, он указывает, что в одном случае перевод термина responsum следующий: «если кто-либо делает оговорку «за деньги, которые должны быть выплачены мне после смерти моей дочери», его требование будет считаться законным». По его мнению, разумно предположить, что оба договора относятся к страхованию, в первом случае это страхование жизни отца в пользу дочери, а во втором — страхование жизни дочери в пользу ее отца.
Далее он отмечает, что в институты Юстиниана (опубликованные в декабре 533-го г. н. э.) добавлено положение о том, что можно заключать договор, основанный на смерти третьего лица. Существует несколько ссылок в римском праве между 2-м и 6-м веками н. э., включая одну, содержащуюся в Сборнике короля Аралика Второго, которая касалась того же вида договора. Из сравнения различных ссылок становится ясным, что договор мог быть заключен во времена Светония в очень ограниченной форме, и что ко времени Юстиниана определенные ограничения были устранены.
Анализируя положения, содержащиеся в уже упоминавшемся сборнике «Basilicôn», изданном императорами Василием I Македонянином и его соправителем Львом VI (Лев Мудрый) примерно в 870-920-х гг. н. э., находим, что эти договоры могли заключаться намного свободней. Один отрывок из Книги 24 можно перевести следующим образом: «В древние времена оговорки, наследственные дела и другие договоры, которые подлежали оплате после смерти (= в момент смерти), были отменены, но ради их общей полезности для человечества мы одобряем их; как было согласовано, положения, которые действовали в древности, были заменены зафиксированным обычаем»[86].
Из этого отрывка, как он считает, можно выделить несколько ценных намеков касательно анализируемых договоров. Во-первых, ясно, что наследство формировало лишь часть предмета данных договоров. Во-вторых, очевидно, что договор представлял собой длительное соглашение.
Первое замечание далее усиливается положением, содержавшимся в Книге 43, которое гласит со ссылкой на договоры, в основе которых лежит обстоятельство смерти, «что оговорка в равной степени действительна как по отношению к наследству, так и любому иному договору».
С. Ф. Треннери резюмирует, что приведенные им отрывки из римского права, безусловно, содержат прямые или косвенные важные условия для заключения договора страхования жизни, в том числе:
1) Застрахованная жизнь.
2) Лицо или компания, с которыми заключен договор.
3) Срок действия или длительность риска.
4) Встречное удовлетворение в ответ на заключение договора.
5) Услуга.
6) Бенефициар (выгодоприобретатель).
Подпункты (1), (3) и (4) напрямую отражены в оговорке, например, «должны выплачиваться моей дочери после моей смерти» и «когда я умру» или «если я умру».
Подпункт (2). Из того факта, что договор или оговорка считались действительными (utilis), т. е. они могли быть предметом иска в Преторианском суде с целью реального исполнения, следует, что лицо или компания, гарантирующие страхование, должны быть указаны в договоре, поскольку для реального исполнения договора было необходимо, чтобы в договоре было четко указано, против кого может быть подан иск.
Подпункт (4). Для того, чтобы договор являлся эквивалентом современного договора страхования жизни, встречное удовлетворение или возмездность должно быть оцениваемым и меньше, чем сама услуга, т. е. сумма возмещения. Кроме того, обуславливалось, что удовлетворение должно было оплачиваться единовременно либо в рассрочку. Для действительности договора было необходимо, чтобы оплачивалось именно ценное удовлетворение, поскольку договор не мог вступить в силу, если он основывался исключительно на встречном добровольном обещании, а не на возмездности.
Подпункт (5). Поскольку договор считался utilis, т. е. действительным и потому подсудным Преторианскому суду, ясно, что сумма или полное описание услуги или суммы возмещения должно было фигурировать в договоре.
В итоге он делает общий вывод — суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что следующие моменты подтверждают вывод, согласно которому римляне были не только осведомлены, но и практиковали систему невзаимного страхования жизни:
1) Продажа и покупка страхований, предусматривающих выплату определенных компенсаций после смерти, а также пожизненные аннуитеты были известны в самый ранний период Римской империи, если не раньше.
2) По крайней мере, римляне обладали хорошими знаниями математики и финансов, что было свойственно и людям 16-го века, которые были знакомы с договорами страхования жизни.
3) Они также заметили влияние климата и расы на продолжительность жизни.
4) Как видно из Таблицы Ульпиана, они имели грубое представление о таблицах продолжительности жизни или вероятности дожития.
5) Они признавали ценность страхования для торговых рисков и имели форму договора, а именно, «азартное» страхование, которое можно было использовать как механизм для страхования жизни[87].
С позицией С. Ф. Треннери, в целом, можно согласиться, подчеркнув, что речь идет об интерпретации общей конструкции соответствующих договоров, которые могли применяться и в иных целях.
Здесь мы рассмотрим вопрос о том, заключались ли римлянами договоры за уплату определенной суммы денег на выплату компенсации на случай смерти конкретного лица либо лиц, которая могла наступить в течение определенного срока или когда-либо, и имели ли эти договоры сходство с современными договорами страхования жизни.
Прямые свидетельства таких договоров состоят из многочисленных записей о широко распространенной системе взаимного страхования, которое, как указывалось выше, осуществлялось похоронными клубами и, возможно, обществами, которые занимались иным страхованием. Кроме этого, существуют определенные положения в римском гражданском праве, которые подтверждают, что римляне были осведомлены и практиковали страхование жизни. Вопрос об информации, на основе которой они оценивали риски и рассчитывали тарифы, к сожалению, не имеет однозначного ответа из-за отсутствия прямых свидетельств, но, весьма вероятно, что расчеты основывались косвенно на данных о смертности, и соответственно премия несла в себе разумную стоимость риска.
Внимательное изучение правовых кодексов Вавилона, Индии, Греции и Египта не позволяет обнаружить какие-либо следы существования договоров коммерческого страхования жизни либо соответствующих обычаев среди этих народов. Поэтому невозможно найти каких-то предшественников, от которых римляне могли получить знания об этих договорах. Кроме нехватки прямых сведений относительно практики любой исследователь может столкнуться с другой сложностью в силу того, что единственные прямые свидетельства можно найти в римском гражданском праве в виде тех или иных оговорок, которые могут быть истолкованы по-разному. Данное свидетельство, которое ограничивается ответами различных юристов на вопросы, возникавшие в отношении этих договоров, и правил определенных императоров, показывает, что указанные сделки считались законными, но само по себе не подтверждает, что эти договоры вообще применялись. Более того, отсутствует прямая информация о деловых, финансовых или математических деталях данных договоров. Однако имеется косвенное свидетельство того, что римляне и их предшественники следили за влиянием смертности на стоимость страхования, что у них была материальная и профессиональная необходимость в составлении аннуитетных таблиц. Одна из них, хотя и грубо, демонстрирует четкие признаки привязки к фактической смертности и показывает, что римляне понимали в деталях систему пожизненной ренты и обладали опытом, который включал в себя практические примеры инцидентов и влияния смертности на фонды обществ, выплачивавших денежные пособия в случае смерти своих членов.
Деловые операции римлян в течение последних дней Республики, в период Империи и вообще на протяжении первых десяти веков н. э. базировались, главным образом, на кредитах, т. е. стали уходить из употребления ранние системы бартера или меновой торговли, и, благодаря развитию финансовой системы и накопления капитала семьями патрициев и лиц уровня сенаторов, хотя им и было запрещено заниматься торговлей, крупные суммы денег авансировались торговцам в предпринимательских целях. Некоторые из этих операций по займам практически представляли собой товарищества, в которых владелец денег выступал в качестве пассивного компаньона, другие операции являлись договорами бодмереи.
Как отмечалось ранее, бодмерейный займ в большинстве случаев предназначался при определенных условиях для возмещения материальных потерь заемщику. Однако заимодавец мог потерять все или часть своих денег не только в случае возникновения каких-либо инцидентов, оговоренных в договоре pecuniæ trajectitiœ, но и в случае смерти торговца во время его торгового путешествия. Следовательно, можно предположить, что обладатель денег, видя, что торговец считает благоразумным защитить себя от убытка, следовал его примеру и заключал договор в виде «азартного страхования» или страхования на пари, чтобы покрыть свой риск утраты по договору бодмереи, а также для получения возмещения в случае смерти торговца. Если такие договоры применялись, они в каждом случае предназначались для срочного страховании жизни торговца.
Широко практиковалась еще одна форма ростовщичества, а именно, предоставление ссуды на случай вероятных выплат после смерти, что требовало знаний и возможностей для заключения договоров по дожитию и страхования от чрезвычайных обстоятельств.
Читаем опять же у Ч. Ф. Треннери: «Благодаря чрезмерной расточительности, которая превалировала в период ранней Империи, этот обычай реализовывался в такой степени, что потребовалось законодательство, которое выявляло злоупотребления имуществом и лишало ростовщиков права на какие-либо претензии на получения возврата денег в случае страхования жизни на пари. Существование весьма многочисленных операций подобного рода в последние дни Республики и в период ранней Империи приводит к мысли о том, что поскольку идея получения гарантии компенсации на случай риска в результате деловых операций возникла у римлян, что свидетельствуется в некотором смысле договорами бодмерейных займов и другими операциями, напоминавшими реальное страхование, ростовщики изменили некоторые способы защиты себя от определенных убытков, которые могли перейти на них в случае, если их клиенты умирали до унаследования долей в бизнесе своих отцов. Конечно, нельзя утверждать и то, что такой вид ростовщичества мог осуществляться без какой-либо системы страхования жизни; при этом предполагается, что такие займы могли оформляться с бóльшей определенностью с точки зрения их стоимостей, если заимодавец мог застраховать себя от убытка, вызванного смертью лица, которому он предоставил займ, и что, если собственники денег и ростовщики приняли некую систему взаимного распределения убытков в ходе их инвестиций, существует большая вероятность того, что и практика займов становилась более адаптированной к потребностям общества. Далее, каждая покупка или продажа страхования на случай смерти требовала соответствующих расчетов в зависимости от страхования на дожитие или страхования от чрезвычайных обстоятельств»[88].
В дополнение к выгоде, которую получали ростовщики с помощью практики страхования жизни, существовали определенные преимущества, которыми могли воспользоваться и иные лица. В случае с людьми свободных профессий, лицами, которые получали аннуитеты, торговцами, связанными с морскими перевозками, ясно, что страхование, либо его эквивалент, считалось для них важной услугой. Римляне, знакомые со страхованием на пари в отношении товаров, не нуждались в дополнительных мотивациях для того, чтобы застраховать себя и на случай смерти. Предположив, что римское общество достигло такого уровня развития, вполне вероятно допустить, что они включали риск смерти в результате естественных причин в число рисков, покрываемых договорами, эвкивалентными сегодняшнему срочному страхованию жизни. При этом сложно однозначно утверждать, что римляне и их юристконсульты четко различали разницу между «если он умрет» и «когда он умрет», т. е. между срочным страхованием жизни и страхованием на дожитие. Отсюда можно предполагать, что римляне расширили свою систему «азартного страхования» до включения в нее срочного страхования жизни, и тем самым, были знакомы с примитивной формой страхования на дожитие.
Хотя отсутствуют прямые свидетельства того, что древние нации учитывали и использовали статистику естественного движения населения (рождаемость, смертность, браки) в своих коммерческих целях, все же имеется много интересных ссылок на разные периоды в жизни людей, на возраст, когда человек может умереть, и на тот факт, что вообще все мы смертны, т. е. проблемы, связанные с продолжительностью человеческой жизни, подвергались определенному исследованию.
Ч. Ф. Треннери по этому поводу замечал: «Интересно отметить, что во всех классических ссылках на бóльшее или меньшее долгожительство речь идет о прямом влиянии климата или национальных условий, в то время как в библейских ссылках на продолжительность жизни долгожительство трактуется как награда, предвкушаемая за строгое соблюдение религиозных заповедей евреев безотносительно климата, и вопрос не стоит и о национальности, поскольку Ветхий Завет предназначался исключительно для евреев»[89].
Можно утверждать, что расчеты, требовавшиеся для установления значений аннуитетов, подписок на похоронные фонды и клубы, в которых члены страховали друг друга на взаимной основе, а также единичные или периодические выплаты по случаю смерти либо в течение определенного срока на случай наступления оговоренного риска, требовали бóльшего объема знаний математики и финансов. Не только римляне, но и ряд других народов древности имели достаточные знания финансовых методов разрешения таких вопросов, не с научной точностью современных актуариев, а весьма приблизительно, а также то, что они либо достигли такого уровня знаний, который позволял рассчитывать таблицы значений, либо они могли привлекать греческих или александрийских математиков в этих целях. Так, в конце 1-го века н. э. арифметика стала настолько важной наукой, что потребовало издания специального учебника. Соответственно, в Александрии около 100 года н. э. Никомах Герасский (Nicomachus — из Герасы, ныне Джараш в Иордании) опубликовал свой трактат по арифметике «Введение в арифметику» (Ἀριθμηθικὴ εἰσαγωγῆ), за которым последовала в 300 году н. э. Алгебра Диофанта (Diophantus).
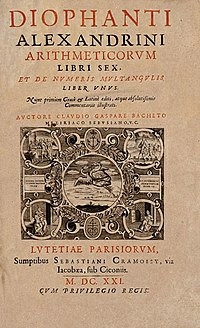
«Введение в арифметику»
Эти две работы сохраняли свое значение в качестве стандартных учебников вплоть до 16-го века н. э. Далее, в дополнение к знаниям арифметики и алгебры римляне на протяжении длительного периода времени использовали абак (abacus — счётная доска, применявшаяся для арифметических вычислений приблизительно с V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме), с помощью которого они разработали сложные арифметические расчеты.
Кроме этого, римляне были знакомы с теорией финансов, т. е. они понимали и постоянно применяли следующие финансовые методы использования денег и ведения учета своих операций: простые и сложные проценты, депозиты, займы, ценные бумаги, векселя, оплата в рассрочку, валютные операции и т. д., торговля (корреспонденты и агенты, вояжеры, распределение прибыли, ответственность партнеров и т. п.).
К приведенным аргументам следует добавить ещё один — как известно, эпоха Возрождения по сути представляла собой возврат в сфере науки и культуры к достижениям Древней Греции и Древнего Рима. Соответственно, есть весомые основания считать, и что известные в древности страховые технологии могли быть заимствованы народами средневекой Европы. В пользу данного тезиса говорит и тот факт, что известные нам наиболее ранние договоры страхования свидетельствуют о достаточно хорошем понимании их участниками основ страховой защиты от тех или иных рисков.

