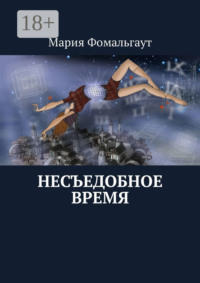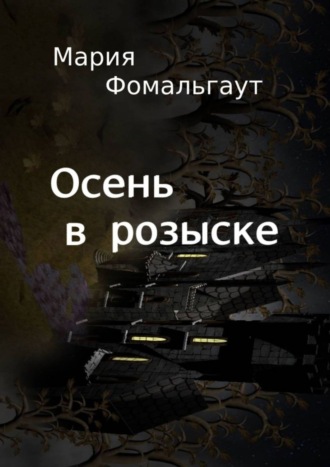
Полная версия
Осень в розыске
…и даже не верю себе, когда вижу стену хранилища, этого не может быть, так не бывает, это мираж, иллюзия, обман, – трогаю влажную стену, поросшую мхом, брезгливо отдергиваю руку. Поднимаюсь по полуразрушенным ступеням, готовым обвалиться под моими ногами, оглядываю то, что когда-то было книгами – через корешки пробивается зеленая поросль, тянется к тусклому солнцу.
Ищу, сам не знаю, что, наконец, нащупываю том, который, как кажется, может помочь мне, открываю, листаю, – том больно кусает меня за палец, вырывается, вспархивает куда-то под своды хранилища, где его не поймать – но я все-таки успеваю заметить боевые треножники и пылающий город.
Значит, это правда, говорю я себе.
Значит…
Настороженно смотрю на книгу, а точно ли ы говоришь мне правду, а не рассказываешь ли ты мне дивную сказку далеких времен…
Перепуганные, переполошенные книги бросаются на меня всем скопом, клюют, хлопают страницами, отбиваюсь от бесчисленных стай, выскакиваю на лестницу, которая проваливается-таки под моими ногами, лечу в какие-то бездны, поросшие непролазным лесом…
– …две тысячи, – говорит проводник.
Вздрагиваю. Понимаю, что он вытянет из меня все до копейки, и даже больше, что он может делать все, что ему вздумается, и я отдам ему все, все, просто чтобы выбраться из этой бескрайней пустыни. Уже понимаю, что я здесь ничего не найду, что здесь ничего нет, только я и проводник, и неизвестно, кто из нас вернется домой…
– …здесь, – кивает проводник.
Даже не понимаю сразу, что – здесь, даже не сразу замечаю обломок проржавленного треножника, чуть припорошенный песком…
Черт…
Это правда, говорю я себе.
Это правда…
Стою, ошарашенный настолько, что когда проводник говорит —
– Три тысячи…
…покорно вкладываю монеты в смуглую руку…
…дописываю последнюю страницу, смотрю на чистый лист, понимаю, что это тоже придется сделать мне самому – неумело вырисовываю треножник, вроде похоже получилось…
НАЙТИ…
ФОТО…
БОЕВОЙ ТРЕНОЖНИК…
Поисковик услужливо ищет фото, не менее услужливо вставляет в статью, понимаю, что работа сделана…
– …зачем?
Кажется, мне не следовало входить в эту комнату, да это вечно моя проблема, в гостях лезу, куда не просят, осталось только найти в комнате труп или что похуже, хотя что может быть похуже…
Смотрю на то, что я увидел в комнате, смотрю на хозяина в дверях, выжимаю из себя одну-единственную фразу:
– Зачем?
– А, для туристов, – кивает мой новоявленный знакомый. Как-то быстро у меня все со знакомствами, утром перекинулись парой слов, а вечером уже сижу у него в гостях, греюсь у ароматного кофе, нахваливаю вкус отменного камина, разлитого по бокалам, беру себе еще кусочек плюшевого кресла, запеченного с гардинами, плотнее кутаюсь в уют.
И черт меня дернул посмотреть в комнату в подвале…
– Зачем?
– А, для туристов, – хозяин показывает на проржавленный обломок треножника, показывает с легкой гордостью, – видите… как настоящий… По фотографиям делал…
Смотрю на обломок, воспоминания накатывают со всех сторон, безжизненная пустыня, смуглая рука проводника, две тысячи, три тысячи, н-да-а, неплохо же ты на тысячах разжился…
– Вы же… вы же никому не скажете?
Я не знаю, что он читает на моем лице, я не успеваю сказать – никому, никому – он бросается на меня, вгрызается в мою память, сильнее, сильнее, откусывает от неё кусок, с болью, с кровью…
…откуда я знаю, что это правда…
Оторопело смотрю на экран, на фотографии боевых марсианских треножников, на охваченный пламенем город, смотрю, как будто вижу все это первый раз в жизни, спрашиваю себя:
Откуда я знаю…
Сто сорок седьмое января
А скоро, а скоро, спрашивают дети.
Не говорят, что скоро, но я и так уже знаю.
А скоро ли утро.
А скоро ли весна.
Снова обнимаю детей, всех пятерых, рассказываю, что пройдет ночь, и наступит день, что пройдет зима, и наступит весна.
А скоро, а скоро, спрашивают дети.
Скоро, киваю я.
Вместе листаем календарь, декабрь, январь, февраль. Говорю, что сегодня сто сорок седьмое января. Ловко соскальзываю с темы, сколько в январе дней.
Вместе смотрим на часы, считаем, час, два, три, десять – ловко уворачиваючсь от вопросов, сколько в ночи часов.
Рассказываю про весну, что вот снег растает, и пробьется зеленая травка, все выше, выше, а потом зацветет, рассказываю про день, что солнце встанет, и будет светло.
Смотрю на колючую морозную ночь снаружи убежища.
Смотрю на невидимый в темноте черный шар в небе, который когда-то был солнцем.
Смотрю на датчик топлива, который показывает ноль. Стараюсь не чувствовать, как холодает.
Обнимаю детей, всех пятерых, так и не знаю, как их зовут. Спать, говорю, спать, укрываю одеялами, поправляю подушки, даю каждому по чашке, а это чай такой, чтобы заснуть, долго сам не решаюсь выпить чашку, наконец, осушаю до дна, – когда дыхания детей уже не слышно…
Грань
…меня в свою компанию они не брали, а если и брали, то так, чуть-чуть, самую малость, привет-привет-пока-пока. Все потому что если бежать к западу, то с ними ничего не случалось, ну может, у кого-то пара синяков на коленках – а у меня сразу открывалась здоровенная рана от уха до уха, я падал ничком, и уже не помнил, как меня уволакивали в безопасное место, в городок. И даже нет, меня не брали в компанию даже не из-за этого, – из-за этого, скорее, наоборот, сочувствовали, соболезновали всячески, – а вот того, что я могу ходить на южную сторону, мне простить не могли. Ну, еще бы, все, кто бежал к южной стороне, останавливались, не добегая до околицы, когда кожа начинала покрываться кровавыми волдырями а у кого-то уже и отслаиваться клочьями. Со мной же все было в порядке, я был целехонек, как будто то неведомое оберегало меня от того неведомого, что было на юге. На меня уже косо смотрели и поговаривали, что я, должно быть, не совсем человек, если вообще совсем не человек, потому что где это видано, чтобы человек пошел на юг и не сгорел дотла.
Впрочем, все это было еще ничего, – а вот если бы узнали, что я по ночам в предрассветные часы тайком ото всех хожу к востоку, вот тут бы меня точно выгнали из города, не меньше. Потому что где это видано, ходить к востоку, ну вы сами-то подумайте, кто ходит к востоку… да-да, то-то и оно, кто ходит к востоку, у того и отрастают крылья, большие, сильные, поднимающие в небеса. Так что если бы кто-нибудь узнал о моих похождениях на восток, то из городка меня бы вышвырнули в два счета.
Впрочем, крылья меня не особенно-то и радовали – все равно лететь на них было некуда. Больше всего я мечтал найти какую-нибудь неприметную тропинку, по которой можно было пройти, не падая с перерезанным горлом, не покрываясь гнойными язвами, не захлебываясь кровавым кашлем, не проваливаясь в реальность, где ждет неминуемая смерть – пройти по какой-нибудь незаметной стежке, увидеть, что там дальше, за пределами нашего городка…
Хотите закрыть книгу?
Сегодня праздновали день смерти… что значит, чьей? Да ничьей, просто – день смерти. Чествовали тех, кто был мертвым дольше всех, нашли даже таких долгомертвецов, которые пробыли в небытие аж несколько столетий подряд.
Я во всем в этом никогда не участвовал, мне это было мерзко – только это строго-строго между нами, что мне это мерзко, все эти дни смерти, праздники небытия. Нет, так-то я все понимаю, на планете нет места, электричества уже на всех не хватает, вот и выкручиваются как могут, отключают на месяц, на два, на год, на сотни лет, кто пробудет в небытие тысячу лет, тому обещали даже какую-то премию, пока не знаем, какую, но не топливо, вот это точно совершенно, что не топливо. И все равно, мерзко все это, и когда я вижу такие празднества, то демонстративно прохожу мимо…
…А?
Да нет, ничего я с этим не собираюсь делать.
А что мне прикажете с этим делать? Отобрать электричество у тех, кто набрал его себе на миллионы лет вперед и передать тем, кто уже те самые миллионы лет сидит в небытие? И как вы это себе представляете? Ворваться в хранилище, чтобы меня убили? Или строчить в каждую сеть, опомнитесь, люди, что вы делаете, там в небытие люди, люди, такие же, как вы – чтобы меня опять же убили?
Так что извините, не собираюсь я тут кулаками махать, я уж так… думаю потихоньку всякое, уж думать-то не запретили еще… Ну что значит, вы пришли на меня смотреть, как я тут сражаюсь и всех побеждаю, не на того вы напали, понимаете, не на того. Так что не обессудьте… давайте просто… я вам о своем мире расскажу, вы мне о своем расскажете, что да как, вместе поудивляемся, вместе повозмущаемся, да как такое возможно, совсем с ума посходили, эти там…
…А?
Да нет, вы не поняли, можете даже не угрожать, что захлопнете книгу, вы её не захлопнете.
Нет, это не вы про меня читаете. Это я про вас читаю, и что-то мне не нравится, что вы ничего не делаете… нет, то есть, я-то понимаю, что сложно все это, я-то вас и не гоню сию минуту в одиночку менять мир… но вот только если кто-нибудь еще за вашу книгу возьмется, он уже так просто не успокоится, что с вами ничего не происходит, как бы вашей книге не закрыться навеки, а закрытая книга отправляется в небытие…
Не верите?
Хотите меня закрыть?
Ну смотрите, смотрите, закрывайте книгу, и посмотрим, кто из нас исчезнет навеки…
Зима-сирота
– Куда вы дели зиму? – спрашиваю осень таким тоном, что уже не сомневаюсь – она во всем сознается.
– А я тут вообще при чем? – вскидывается осень, еще пытается что-то возразить.
– А кто, по-вашему? Весна, что ли? Да не скажите, весна только в марте появилась, как и положено, а вы тянулись и тянулись с сентября по март, черным бесснежием окутывали землю! Где… где зима?
– Сейчас… сейчас я вам все объясню… – осень поднимается по изогнутой лестнице, распахивает неприметную дверцу чердака, я вижу зиму, связанную по рукам и ногам, с кляпом во рту, – бросаюсь к пострадавшей, развязываю, даю хлебнуть горячего какао, то, что надо зимой, а вот еще, бокал шампанского в новогоднюю ночь… зима оживает, искрится не то шампанским, не то снегом, понимаю, как я истосковался по снегу…
– Ну а теперь будьте любезны объясниться, уважаемая осень, чего ради вы пытались захватить власть над годом, если можно так выразиться… если бы весна вам не помешала, уж не знаю, что было бы…
– Неправда! Неправда! – весна распахивает дверь, вбегает, пахнущая свежими ветрами, проталинами, апрельскими сумерками, первыми подснежниками, первыми грозами, – все не так! Все не так!
– Что… что не так? – оторопело смотрю на весну, ну что еще такое…
– Неправда… Осень не виновата… вернее, виновата, но… вернее, не виновата… сейчас, сейчас… – весна птичьей стаей делает круг над комнатой, опускается в кресло, – сейчас я вам все объясню… Вы понимаете… осень сделала это ради меня…
– Ради вас? Но… но зачем?
– Вы понимаете… – весна встряхивает головой, белые лепестки летят на ковер, уже усеянный пестрыми листьями осени, – осень… дело в том, что осень… мы с осенью… осень любит меня, вот что.
– Но… осень же никогда вас не видела… вернее, не видела до сегодняшнего момента…
– Не видела, но мы немало слышали друг о друге… мне рассказывала зима… и лето… лето говорило мне про осень, расцвеченную всеми красками, лето обмануло меня! – весна заливается слезами, – обмануло, обмануло!
– Да что такое… что вы… почему… обмануло…
– Да вы посмотрите на эту осень! В ней и близко нет ничего такого… ничего пестрого, разноцветного, только голая черная земля… а осень так умоляла о встрече…
– Да вы сами-то хороши, почтенная весна, лето обещало мне, что я увижу изобилие белых цветов, заросли сирени, аромат яблонь… а это что? Все те же голые ветви…
– На себя посмотри! Чего заслуживаешь, то и получила в самом-то деле!
– Я уже понял, что их не примирить, я уже понял, что любовь безнадежно рассыпалась на кусочки, так и не успев вспыхнуть. Здесь нужно сказать – вы арестованы – здесь язык не поворачивается сказать – вы арестованы, я умоляюще смотрю на зиму, которая уже отогрелась у очага и даже начала потихоньку подтаивать…
– Госпожа зима… у вас есть… какие-то претензии к этой… гхм… парочке?
– Да… пожалуй, что нет…
– Вы уверены? Вас все-таки держали взаперти…
– Ну, знаете… ради встречи двух влюбленных сердец…
– Боюсь, у них ничего не сложится…
– Ну, это вы так боитесь, а я почему-то верю, что у них получится…
Говорю, сам не верю в то, что говорю, какое там получится, две черные облетевшие пустоши смотрят друг на друга, каждая ждет от другой цветущих садов или пестрого разнолистья…
– …и вы поверили? – лето с презрением смотрит на меня, – и вы им поверили?
– А… простите… а что не так?
– А все, все не так, глупый, глупый вы человек! Выдумали тоже… любовь у них, страсть… разыграли спектакль…
Понимаю, что проиграл, и что мне ничего не остается кроме как спросить:
– А что… что было на самом деле?
– Вот с этого и надо было начинать… вы бы хоть спросили у зимы, зачем она умоляла осень связать её по рукам и ногам, отвести в башню! Да вы хоть понимаете, что время года невозможно связать по рукам и ногам, где вы вообще у времени года руки-ноги видели? Вот тог-то же…
– Но… но зачем тогда…
– Вот это нам и предстоит выяснить…
Смотрю на лето, понимаю, что моя роль детектива кончилась раз и навсегда, так толком и не успев начаться, и лето берет все в свои руки, если у лета вообще есть какие-то руки, да вы о чем вообще…
– Пойдемте… – лето хватает меня за руки, мне не по себе от этих теплых рук, за этими теплыми руками хочется идти в бесконечность… – пойдемте… поговорим с зимой, спросим у зимы, что она себе задумала…
Зима встретила нас холодком, обещавшим ближе к ночи перейти в крепкий морозец, уютным камином, чашечками чего-то ванильно-пряного, шоколадно-зефирного, что бывает только зимой…
– Уважаемая зима… – начинаю сразу, без обиняков, – где вы были… когда осень якобы связала вас?
– Что значит, якобы, что значит, якобы, да вы её не знаете, эту осень… коварное создание, она…
– Хватит, хватит, мы раскусили вас… что вы делали все это время… после того, как вымолили у осени эти три месяца, когда она подменит вас?
– Как вам сказать…
– …вы занимались какими-то радиоволнами, – вставляет лето, – зачем?
– Почему вы направляли их в небо… в космос?
– Понимаете, я… сейчас, сейчас… давайте устроимся у камина, поговорим…
Устраиваюсь у камина, думаю, убьет она меня или нет, или скажет правду, или это ловкий стратегический ход, чтобы ничего не рассказывать, а просто расправиться со мной…
– Понимаете… – зима откашливается, видимо, простужена, – я ищу зиму…
– Простите… но вот же вы.
– Это да, да, – зима нетерпеливо кивает, – но я ищу другую зиму…
– В смысле… другого года?
– Нет… другую зиму… зиму там… – показывает в ощеренное звездами небо… – там…
Начинаю о чем-то догадываться, но недостаточно быстро, перебираю записи на столе, письма, письма, письма, если это можно назвать письмами – на неведомых языках…
– Это…
– …зимы.
– Простите?
– Зимы. Зимы, зимы и зимы… Вот, взгляните… зима Урана… зима Мафусаила…
– Это, простите…
– В созвездии Скорпиона в компании двух давно умерших звезд… пишет, как ежевечернее садится ужинать с погасшими звездами в свете их мертвого сияния. Или вот, зима-сирота на планете-сироте, у неё нет звезды, понимаете… она скитается в пустоте космоса, спрашивает меня, что такое лето…
– Гхм… – меня передергивает – а если пригласить её сюда? Ну, например… пока в гости?
– Боюсь, я это уже сделала…
Мне не по себе, меня неприятно передергивает, еще не хватало, чтобы все зимы, зимы и зимы разум ринулись к нам, хорошо хоть зимы, а не лета, а то бы вообще пришлось несладко, если бы раскаленные звезды ринулись к нам…
И все-таки мне не по себе, что все зимы придут сюда, и все-таки мне так и кажется, что с этих зим случится что-то… что-то… еще не знаю, что, но явно что-то недоброе…
– …а зима-сирота очень благодарна нам… – начинает с порога зима, наша настоящая зима, – погрелась у нашего солнца… наконец-то узнала, что такое настоящее лето…
– Замечательно, просто замечательно… а теперь будьте добры объясните, что это за испарения поднимаются от вашей сиротливой зимы и движутся в нашу сторону.
– Ну… что-то тает…
– Так я вижу, что что-то тает, а что именно?
– Ну что вы у меня спрашиваете, я же всего-навсего зима…
– Но я не знаю, кого мне еще спрашивать… и сколько нам вообще осталось…
Смотрю на то мерцающее, что поднимается от бездомной планеты, думаю, что будет с нами дальше…

Тюльпальма
…а я вам говорю, что вы уйдете, сию минуту уйдете, не унимается тюльпальма, сию минуту кончайте свои выходки, и уходите, а то я полицию вызову. Я не кончаю свои выходки и не ухожу, я стою, прикованный к стволу дерева, я еще пытаюсь что-то доказать, вы хоть понимаете, что это редчайшие эндемические виды, вы хоть понимаете, что эта тюльпальма росла, когда нас всех еще на свете не было, тюльпальма еще наполеоновские войны помнит, даром, что никогда их не видела, и какую-нибудь Атлантиду, даром, что её не существовало никогда. Ну и что, говорит тюльпальма, нефть еще древнее, и что, кого-то это смущает, когда её качают баррель за баррелем? Ну, то нефть, говорю я, а то уникальная тюльпальма, живая, пережившая века и века, таких сейчас не осталось, их вырубили еще когда, еще при каком-нибудь колумбе, или кто там первый высадился на эту землю, рубил многовековые леса, вывозил охапки стволов… так что даже не думайте трогать последнее дерево, слышите вы, ну и что, что мебель из него на века, даже не вздумайте, только через мой труп, поняли, и даже не просите, чтобы я снял наручники, даже не просите, чтобы я отцепился от дерева, не дождетесь. Да хоть все полиции на свете вызывайте, не дождетесь. Это моя земля, не унимается тюльпальма, и дерево мое, и все мое, а вы вообще не имеете никакого права здесь находиться, слышите вы, тоже мне защитник природы выискался, если вы мне выгодную сделку испортите, я вообще не знаю, что я с вами сделаю, вы давно в тюрьме не сидели, что ли? А я не уйду, говорю я, у меня кончится еда и вода, а я не уйду, буду собирать тяжелые капли дождя, упавшие с листьев, буду подбирать тяжелые сочные плоды тюльпальмы, и черта с два вы мне что-то сделаете, черта с два. Понимаю, что с моей стороны это блеф, не более чем блеф, что сюда уже идет полиция, чтобы отцепить меня от дерева, и все, дальше будет визг пилы, треск ствола, возвещающий смерть.
Вы поймите, поймите, – иду на попятную, – вы хоть понимаете, что древнее дерево может рассказать немало удивительных вещей, вы хоть понимаете, что за это можно брать немалые деньги? Кому они сейчас нужны, эти россказни, людям подавай древесину, уникальную древесину…
Еще кричу что-то, когда меня отцепляют от ствола дерева, скручивают руки за спиной, еще вырываюсь, да вы не понимаете, да вы же сами себя губите – тюльпальма огрызается, да ну вас к черту, надоели ваши бредни, что все в мире единое целое, все взаимосвязано, все… Меня уволакивают, я еще успеваю увидеть, как вздрагивает тюльпальма под ударами топора, еще обсуждая что-то с покупателями, да, две тысячи за кубометр древесины, нет, две, никаких полутора, вы же сами видите, первоклассного каче…
Как я стал Картером
Умирая, он дал мне имя – это было тем более странно, что раньше никто не давал мне никаких имен, я даже не знал, что вообще существуют какие-то имена. Кроме того, раньше никто не умирал, в этом он тоже был первым – упал с небес пылающей звездой у моего подножья, и умирая, дал мне свое имя.
Так я стал Картером. Другие скалы поглядывали на меня косо, если не сказать хуже, ну еще бы, это еще что такое – имя, где это видано – имя, ишь, чего выдумал – имя, ни у кого раньше не было никакого имени, а тут имя, так мало того, что имя, так еще и – Картер. Нет бы… ну хотя бы… ну… никто не знал других имен, других имен попросту не было, но все сходились во мнении, что у меня могло бы быть какое-нибудь другое, более подходящее имя, чем Картер, даром, что никаких имен больше нет.
Я-то понимал, что они мне просто-напросто завидуют, ну еще бы – ни у кого из них не было имени, даже самого крохотного завалящего имечка, даже кусочка имени – а у меня было целое имя, да не какое-нибудь, а Картер. Особенно завидовал… гхм… я даже не могу его назвать, потому что у него не было имени.
– Я так понимаю, это уже четвертый случай?
– К сожалению, уже шестой. Еще две экспедиции в тридцать восьмом.
– С ума сойти можно, что их вообще туда тянет…
– Да вот то-то и оно, что ничего, никто из них туда даже и не собирался, а вот нате вам…
– Ну и с какого боку предлагаете раскрывать это дело?
– Да ни с какого, просто запретить полеты в этом регионе, и дело с концом…
– Оживленная трасса, так просто не запретишь…
– Ну а вы что предлагаете, чтобы дальше люди гибли?
– Ничего я пока не предлагаю… разбираться надо…
– Флетчер!
Мне показалось, я ослышался – но нет, никаких сомнений быть не могло, его окликали по имени. Его – того, у которого раньше не было даже намека на имя, а теперь целое имя – Флетчер.
– Как? – спросил я, – откуда?
Флетчер только улыбнулся, многозначительно и загадочно, насколько скалы вообще умеют улыбаться – а вот так, а вот нечего тебе одному жить с именем, ишь какой, имя себе устроил, ты, значит, с именем, а мы без? Вот я теперь Флетчер, все поняли, да?
– …знакомьтесь, Тейлор. И Уокер.
Когда Флетчер сказал это – Тейлор и Уокер – мне стало окончательно не по себе. Нет, не то, что я кому-то завидовал, да кому я вообще мог завидовать, у меня ведь тоже было имя, да не какое-нибудь, а Картер, – и не то, чтобы я считал, что имя может принадлежать только мне, и никому больше, – но что-то в этом было странное, неправильное что-то, что они все один за другим становились Флетчерами, Тейлорами, Уокерами…
Я присмотрелся к новоявленным Тейлору и Уокеру и заметил то, чего не замечал раньше – два истлевших тела у их подножий, два тела, упавших с высоких небес и сгоревших дотла.
– Как… как вы это сделали? – спросил я, даже не ожидая, что мне ответят.
– Так же, как и ты.
– Но я… я ничего не делал, он сам…
– Так и они… сами… – многозначительно усмехнулся Флетчер, и мне стало не по себе от этой усмешки.
…нет, он достойный холм, ну и что, что у него имени нет, сейчас все еще много кто без имени, имя вообще вещь редкая, сейчас все труднее хорошее имя достать, да что хорошее, просто какое-нибудь завалящее, – падают и сгорают все меньше и меньше, как будто назло. Так что нечего от него нос воротить, он ничуть не хуже других, а то может и лучше, вот имя себе получит, вообще всех вас за пояс заткнет…
– …вы… вы с ума сошли, или как?
– Боюсь, это единственный шанс узнать правду…
– …и погибнуть?
– Я уверен, что этого не случится…
– …Ну, вот видите, а вы переживали, вот и у вас имя появилось…
– Вы… вы понимаете…
– Да что такое, на вас лица нет, что случилось-то? Как вас теперь… Дэвис? Отлично звучит…
– Вы не понимаете, тут такое произошло…
– А что?
– А то… он дал мне имя…
– Ну, вот и прекрасно.
– Он упал с небес, увидел меня, дал мне имя, холм Дэвиса…
– Ну, да, так оно и бывает.
– Но он не умер, понимаете, не умер!
Замираем, как громом пораженные, как будто скалы могут замереть еще больше.
– Вы… вы сказали…
– …он не умер.
Не понимаем, а как, а почему, а неужели, а что, а так можно было, дать имя и…
Теряемся, смущаемся, боимся смотреть друг другу в глаза, понимаем, что сделали что-то не то, что неправильно это, и мы не вправе вот так использовать имена, которые забрали… вот так…
– …надо бы вернуть, – говорит кто-то, и я даже не сразу понимаю, что это сказал Флетчер.
– Надо бы, – соглашается Тейлор.
– Или лучше… – Дэвис задумывается, не договаривает, но мы понимаем все…
– …как… как вы это объясните? Они же… еще вчера… Еще вчера здесь были обгоревшие кости, честное слово!
– А они… эти люди… что-нибудь помнят?
– Ровным счетом ничего…
– Боюсь, нам еще много придется объяснить… если здесь вообще что-то возможно объяснить…
А-Н
Электричка А-Н всегда боялась людей, они казались ей каким-то жуткими, выбегающими на пути на переходе, и ей чудилось, что вот-вот сейчас случится что-нибудь непоправимое, человек не успеет отскочить, и придется сбить бегущего, или сойти с рельсов и врезаться во что-нибудь там, по ту сторону перрона – А-Н учили всему этому, но она надеялась, что ей никогда в жизни (если жизнь электрички можно назвать жизнью) не придется сделать это.