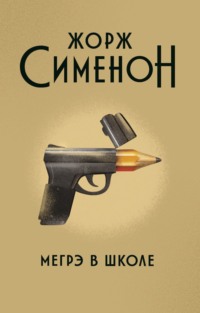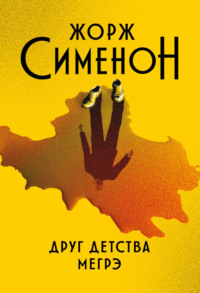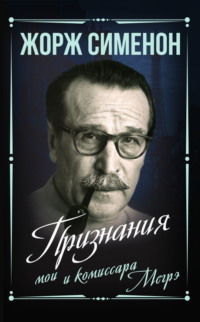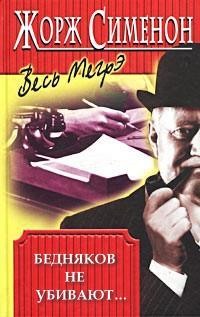Полная версия
Три комнаты на Манхэттене
– А ну-ка, подойди, с-нок!..
Погружала руку в ящик или корзину и совала мне горсть ракушек-побережниц или серых креветок.
Иногда матушка видела это в витрину.
– Ты их съел? – допытывалась она, когда я возвращался.
Все, что покупалось на рынке утром, считалось заведомо доброкачественным, тогда как к товару перекупщиц относились с опаской.
– Ну смотри!.. Вот не слушаешься!.. И дождешься, схватишь когда-нибудь брюшняк!..
Сквозь сумерки, на прежнем месте, наклеенное на стене рынка, все еще виднелось объявление. Но может, оно провисело там уже неделю? Осталась же на противоположной стене старая афиша гастролировавшего прошлым летом цирка!
Меня также удивляет, что я пропустил мимо ушей все разглагольствования тети и даже затрудняюсь припомнить общий смысл ее рацеи.
Однако же я хорошо помню, что меня что-то тогда поразило, что-то совсем необычное, и я внимательно оглядел всю площадь, стараясь догадаться, чего же недостает. И сейчас вижу часы, показывавшие десять минут шестого. Вижу за матовыми стеклами силуэты посетителей кафе Костара. Даже вижу аптекаря с седой бородкой, наклонившегося над прилавком и растирающего в ступке какие-то снадобья.
И тут я поднял глаза… И понял. Необычным было окно моего друга Альбера – да-да, я назвал его своим другом Альбером, хотя ни разу с ним не разговаривал.
На окне Рамбюров не было настоящих гардин. Но вечерами, когда они садились ужинать, всегда в одно и то же время, мадам Рамбюр подходила к окну и завешивала его, прицепляя к кольцам черный лоскут – вероятно, остаток старого платья.
А в тот вечер – не важно, в ту или другую пятницу, поскольку я не уверен, – хотя было всего десять минут шестого, черный лоскут уже болтался на месте. Это было бы понятно в субботу, когда окно занавешивали раньше, чтобы выкупать Альбера. Я всегда следил за приготовлениями. Как сейчас, помню оцинкованную лохань и два кувшина с горячей водой, чистое белье, которое мадам Рамбюр аккуратно выкладывала на спинку стула.
Но поскольку мадемуазель Фольен у нас шила, значит была пятница, и я в недоумении, почти даже в страхе уставился на черную ткань.
Мадемуазель Фольен села с нами ужинать. Это случалось нередко. Вообще-то, ей полагалось уходить в семь, но она задерживалась, всегда требовалось что-то закончить.
– Не обращайте на меня внимания… – отнекивалась она. – Садитесь за стол… Мне работы на пять минут…
Но все отлично знали, что ее пять минут растягивались до девяти часов вечера, и если бы допустить, то она просидела бы и до поздней ночи.
Она казнилась, что матушка кормит ее лишний раз. Боялась, как бы ее не сочли нахлебницей, и всегда садилась на кончик стула, положив цыплячьи ручки с остренькими пальчиками на самый край стола.
Отец в этот час обычно был возбужден, сидел раскрасневшийся, с блестящими глазами, но не потому, что выпил, – не думаю, чтобы он пил, – а просто после целого дня, проведенного на воздухе, на ветру, под дождем. В духоте нашей крохотной кухоньки его сразу разбирало.
Руку на отсечение даю, что в тот день на ужин были свиные отбивные с брюссельской капустой.
– Мне половиночку, – жеманничала мадемуазель Фольен с «изысканной» миной, для чего складывала губы сердечком; точно с такой же миной матушка обслуживала лучших клиенток.
– Но зачем же, мадемуазель Фольен! Тут на всех хватит…
Тогда, по обыкновению, она все же разрезала отбивную пополам. И, дождавшись минуты, когда на нас никто не смотрит, украдкой перекладывала половину мне на тарелку.
– Тсс!.. В твои годы надо набираться сил…
Я знал, что немного погодя она поступит точно так же с рисовыми котлетами. Прямо какой-то пунктик. Отца это коробило, но вмешиваться он боялся. Это было тем более нелепо, что у нас действительно не считались с едой; не считались еще и потому, что большинство рыночных торговок были нашими покупательницами и уступали нам все по дешевке.
Урбен уже ушел со своим котелком и, верно, пристроился ужинать где-нибудь в уголке конюшни.
– Когда ты соберешься в Сен-Никола? – вдруг спросила тетя.
– В понедельник, – ответил отец: он, казалось, чем-то озабочен.
– Мне хотелось бы, чтобы ты разузнал… Насчет месье Ливе… Я, правда, подозревала, что он такой же каналья, как и остальные… Все поверенные – канальи, а нотариусы в особенности!..
Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь произносил слово «каналья» так, как тетя Валери. Ее большой усатый рот дробил его и выплевывал, будто случайно попавшийся гнилой орех. Она грузно сидела на стуле, огромная, шарообразная, рыхлая и в то же время чугунно тяжелая, загораживая всем тепло от плиты, и переводила свои вечно слезящиеся глаза с одного на другого.
– Я уверена, что он тайком от меня побывал в Сен-Никола, виделся с Элизой и ее Трике… Конечно, он не признается, но я убеждена, что он с ними виделся… Что они ему наобещали, мне неизвестно, а впрочем, догадаться не трудно… Так или иначе, он на их стороне… Ты наведешь справки… Его не могли не заметить…
Мадемуазель Фольен совсем съежилась в комочек и не смела жевать, даже дыхнуть боялась. В тот вечер все домашние казались какими-то измученными.
– А когда ты поедешь в Кан…
– В среду или в четверг, – перебил ее отец.
– Захватишь меня с собой… Мне дали адрес адвоката. Мы вместе пойдем к нему… Я расскажу ему все как есть. Что я ни в коем случае не желаю, чтобы дом достался этим людям – ни дом, ни деньги, – и что я хочу завещать все вам…
Наступило молчание, про которое говорят: «Тихий ангел пролетел…»
Матушка и отец избегали смотреть друг на друга, потом все же обменялись взглядом, украдкой, словно в этом было что-то дурное.
– Еще немного капустки, тетя…
– Спасибо! Она мне не по желудку.
По-моему, я стал еще краснее, чем отец. Как это я раньше не подумал! Я ни о чем не думал! Беспрекословно принял как должное непонятное вторжение в наше и без того тесное жилье тети Валери, которая к нам раньше носа не казала, и слова отца: «Не повторяй то, что слышал…»
Но что такого я мог слышать? А портрет, который так спешно вставили в рамку и повесили на самом видном месте над камином и Мадонной!
Что я слышал?.. Какая-то история с домом, теперь я начал припоминать. Несколько раз за столом заходила речь о каком-то доме, который должен нам достаться по наследству, а потом уже не должен был достаться…
И это слово «дом» звучало у нас по-особенному. Впоследствии я не раз об этом размышлял… Теперь я знаю, что дом тети Валери в Сен-Никола, вероятно, стоил по тем временам тысяч тридцать, поскольку к нему примыкал луг, который сдавался соседям-фермерам.
Родители мои не нуждались в этих тридцати тысячах франков. С тринадцатилетнего возраста – сначала со своим отцом, потом с Урбеном – батюшка круглый год, во всякую погоду и, за редким исключением, всякий день, объезжал ярмарки в округе; я видел его дома лишь вечерами и за ужином. Матушка тоже с первого дня замужества только и делала, что бегала из кухни в лавку и обратно, так что мы, очевидно, жили в относительном достатке.
Однако мы не были домовладельцами! А слово это тоже было словом совсем особого рода, не похожим ни на одно другое.
Чтобы в этом убедиться, достаточно было услышать, как матушка вечерами провозглашала:
– Только что видела домовладельца…
– Он заходил?
– Нет… Заглядывал сквозь витрину. Ну как всегда…
Что правда, то правда: месье Реноре был личностью даже устрашающей. Ему принадлежала почти половина всех домов на площади, когда-то составлявших одно целое, если не ошибаюсь – почтовую станцию. Дом, в котором жил Альбер с бабушкой, тоже был частью этого целого, равно как аптека и кафе Костара. Сам же месье Реноре занимал старинный особняк с въездными воротами на улице Сен-Жан, сохранившим вделанные в стены поставцы для факелов и тумбы, с которых садились в седло.
Месье Реноре был тощий, с белыми волосами, белым, цвета слоновой кости, лицом, длинным носом и длинными тонкими губами; все черты заостренные, как у мертвеца. Я ни разу мертвецов не видел, но был твердо убежден, что месье Реноре похож на мертвеца.
Зимой он ходил в шубе с каракулевым воротником и вечно держал в руке трость с серебряным набалдашником.
Поговаривали, что дома принадлежат не ему, а иезуитам и что сам он вроде тоже как бы иезуит. Дважды или трижды в неделю он прогуливался или, вернее, делал обход, медленно шагая и на каждом шагу откидывая назад корпус. Он ни с кем не раскланивался. Подойдет к витрине и подолгу стоит смотрит, что было уже совсем смехотворно: мужчины ведь не интересуются коленкором, готовым дамским платьем и галантереей.
Стоило матушке почувствовать, что он там, стоило сквозь витрину различить его силуэт, как у нее начинали трястись руки. Она совершенно терялась. Не знала, что отвечать покупательницам, и, уверен, иной раз, отмеряя ситец, сбивалась со счета.
Что он рассматривал? Во всяком случае, не матушку, потому что затем он точно так же останавливался перед мучным лабазом, где вообще не было женщины-продавщицы. Приходил ли он удостовериться, что мы не попортили его дом или что торговля идет достаточно бойко и мы сможем уплатить арендную плату?
– Как это так, чтоб не добиться купчей недействительной! – опять взялась за свое тетя Валери. – Прежде всего, они не выполнили своих обязательств, раз не стали жить со мной в доме, как договорились…
– Они письменно обязались? – осведомился отец.
Мне стало за него неловко. Я предпочел бы, чтобы он вообще не интересовался всей этой историей с домом.
– Не письменно, но об этом говорилось в присутствии нотариуса, составлявшего договор… Он тоже каналья, но на суде ему придется повторить то, что он слышал!..
– Но вы ничего не кушаете, тетя… И вы тоже, мадемуазель Фольен.
Матушка любила, чтобы люди за столом ели. Она насильно накладывала им еду на тарелки, подобно тому как мадемуазель Фольен накладывала мне.
– Дом и обстановку я завещаю вам… У меня имеется еще некоторая сумма в банке, ее я отпишу вам перед смертью…
Какая же все-таки это была пятница? Нет, положительно не помню. Но не странно ли, что ни об утренней сцене, ни о сломанных игрушках, ни о пощечине разговор не поднимался…
Дальнейшее почему-то смешалось. Может, меня клонило ко сну? Мадемуазель Фольен надо было что-то дошивать в комнате, и меня не сразу уложили в постель. Ставни в лавке закрыли. Лишь во фрамуге над дверью виден был клочок мрака и дождевые капли.
В углу лавки, возле винтовой лестницы, помещалась конторка, отец на нее облокотился. Тетя Валери осталась на кухне. Матушка раскладывала по полкам штуки полотна. Время от времени отец задавал вопросы:
– Мадаполам «СХ двадцать семь» еще остался?
– Оставалось самая малость. Я только что продала…
– А широкий миткаль?
– Сегодня начала последнюю штуку…
Значит, был день заказов.
– Представитель «Детриве и сыновья» не заезжал? Были жалобы на его перкаль в цветочек – краска никудышная…
Тетя, раскачавшись, стронулась с места и башней воздвиглась между прилавками, не зная, с кем бы заговорить: матушка торопливо сворачивала штуки, отец писал, а мадемуазель Фольен сотрясала потолок швейной машинкой.
Меня же целиком поглощало слово «дом»; в этом коротеньком словечке мне слышалось в тот вечер что-то нехорошее и даже немного постыдное. Я не помню, как отправился спать, а ведь должен же я был, по заведенному порядку, поцеловать матушку, а потом отца в колючие усы.
Обсуждали, нет ли потом родители в постели все эти перипетии с нотариусом, адвокатом и господином Ливе?
«Теперь ты видишь, Жером, что ошибаешься, – торжествовала бы матушка. – Дети всегда такого навыдумывают!..»
Однако я не ошибаюсь. Вот как это произошло. Почему я встал раньше обычного, объяснить не сумею. Впрочем, что тут особенного? Может быть, я захворал?
Или же… Ну конечно! Скорее всего, это именно так. Иногда у нас делали так называемую генеральную уборку. И тогда приглашалась поденщица. Она приступала к работе очень рано, еще до отъезда отца, чтобы успеть прибраться в лавке к открытию. Матушка, повязав голову черной в белый горошек косынкой, помогала ей. А когда они добирались до кухни, бежала наверх переодеться и занимала свое место за прилавком.
Вероятно, так оно и было. В таких случаях мне приносили завтрак наверх: в кухне, перед тем как приняться за мойку пола, стулья громоздили на стол и всю мебель сдвигали в угол.
Оттого-то мы с тетей Валери и оказались в половине восьмого наверху в комнате, возле окна полумесяцем, а на улице было еще темно и горели фонари.
Что мне хорошо запомнилось, так это общий вид рынка, потому что суббота была базарным днем. Все четыре выходящие на площадь улицы были битком забиты окрестными крестьянками, примостившимися возле корзин и клеток с курами и кроликами.
Двуколки стояли за крытым рынком, и оттуда доносились стук копыт и ржание.
Дождь, как ни удивительно, перестал. Мостовая еще была совсем сырой и черной, так же как и квадратная шиферная крыша рынка. Но что сразу бросалось в глаза и меняло всю картину, так это туман, его едва пробивал желтый ореол газовых фонарей.
Похолодало. У прохожих покраснели носы, и они то и дело их утирали. Дверь аптеки стояла настежь, старуха-поломойка гнала грязную воду к порогу. Я ее как сейчас вижу: она повернута ко мне спиной, зад торчит в воздухе, а голова почти у самого пола, и рядом сероватое ведро.
Возчики тащили ящики, корзины, разгружали фургоны. Это был час крупных сделок, когда на рынке распоряжаются оптовики, а в городских квартирах хозяйки еще варят утренний кофе и составляют список покупок.
– Достаточно греет?
Матушка вихрем взлетела по лестнице. Оглядела комнату, удостоверилась, что горелка в керосиновой печи не коптит, потому что тетя и не подумала бы проверить.
– Вам ничего не нужно?.. Из-за тумана придется снова протирать стекла…
Я не знал, отчего придется снова протирать стекла, и эта пустяковая загадка на миг заняла все мои мысли.
– Если вам что-нибудь потребуется, тетя, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу же зовите… А ты постарайся быть умником… Ничего, после рождественских каникул опять пойдешь в школу. Сейчас уже нет смысла…
Утренние посетители кафе Костара отличались от вечерних. Утром за вечно грязные столы садились перекусить огородники, возчики, крестьянки, и в набитом людьми зале стоял гул голосов и густой запах пищи.
Я увидел, как приближалась четверка людей. Все, кроме одного, были мне незнакомы, но я сразу почувствовал всю необычность их появления на рынке. Один, длинный и худой, в пальто безупречного покроя и с моноклем, был, видимо, важное лицо. Шагавший рядом с ним толстый коротышка, жестикулируя, что-то объяснял. Другие двое, попроще, держались несколько поодаль, будто ожидая приказаний.
Они пробирались сквозь рыночную толчею, стараясь не запачкаться, и, поискав местечко потише, остановились все четверо под часами, то и дело поглядывая в сторону мучного лабаза.
Дважды или трижды длинный с моноклем доставал из кармана часы и нажимал пружину, отчего крышка резко отскакивала.
Где пропадала тетя Валери? В эту минуту ее не было возле меня. Скорее всего, она была в уборной, куда спускалась дважды в день, всегда в определенный час, и откуда выходила со счастливым вздохом.
Еще взгляд на карманные часы. Я, со своей стороны, посмотрел на большие рыночные – они показывали без одной или двух восемь. Длинный худой подал знак. Толстый коротышка в сопровождении двух других двинулся с места, лавируя между корзинами и прилавками; одного из своих спутников он оставил на тротуаре перед мучным лабазом, а со вторым вошел в примыкавший к лавке узкий коридор, откуда лестница вела к моему другу Альберу.
Матушка сказала бы, что стояла кладбищенская погода. Все серовато-белое, смутное, расплывчатое, нереальное, даже звуки какие-то приглушенные, не как в другие дни.
Лабазник в черной шелковой ермолке на лысом черепе вышел из лавки и заговорил с оставшимся на улице человеком. Не знаю, что он ему сказал. Не знаю, что тот ответил, но он посмотрел на окно полумесяцем мадам Рамбюр.
И тут, мало-помалу, так незаметно, что я, глядевший во все глаза, не сумел бы объяснить, как и с чего это началось, прохожие стали поднимать голову и останавливаться. Не успел я посмотреть на окно Альбера, как перед домом уже собралась целая толпа.
Черная занавеска была снята. Комнату освещала керосиновая лампа, так как на втором этаже не было газа. Альбер сидел в своем креслице – такое, обтянутое гранатовым репсом, кресло мне самому до смерти хотелось иметь. Он был в кальсончиках, и бабушка натягивала на него штаны.
Только когда она так вот наклонялась, я видел ее всю целиком. Сама она уже была одета; я ни разу не застал ее непричесанной или в халате.
Она как будто говорит? О чем это они толкуют? Подняла голову. Вероятно, стучат в дверь? Потом мадам Рамбюр исчезла. Я увидел мужские ноги, черные штиблеты, черные брюки. Про моего друга Альбера совсем забыли, он так и остался сидеть в наполовину надетых бархатных штанах.
– Что там такое происходит? – спросила вошедшая в эту минуту тетя Валери.
Я вздрогнул, будто меня поймали с поличным. Между тем многие посетители вышли из кафе, и по крайней мере полсотни человек уже стояли на тротуаре, задрав голову кверху.
– Не знаю…
– Похоже, что-то случилось. Сходи узнай… Хотя нет… Еще простудишься, и твоя мать скажет, что это я виновата.
– Я узнаю.
– Жером!.. Не надо… Ты…
Внизу, когда я собирался уже выскочить на улицу, матушка удержала меня за руку.
– Ступай наверх, Жером. Такие зрелища не для тебя…
– Почему?
– Нипочему… Ступай наверх!.. Вот и тетя тебя зовет!
Сколько времени я пробыл внизу? Когда я вновь занял свой пост у окна, Альбер сидел уже в штанишках. Я видел ноги лишь одного из двух мужчин. Где же второй?.. Вот он вышел и позвал оставшегося перед домом коллегу. А четвертый, тот, что с моноклем, он по-прежнему неподвижно стоял под часами, словно бы руководя всем издали.
– Похоже, что полиция… – пробормотала тетя Валери.
Я-то ни минуты не сомневался, что полиция; того агента, что остался ждать на тротуаре, молодчика с длинной шеей и торчащим кадыком, я просто знал: иногда он появлялся на рынке и составлял протоколы.
Не все торговки оставили свои места за прилавком. Что бы ни случилось, торговля должна идти своим чередом, но все же тут и там собирались кучки людей, и видно было, что они ожесточенно спорят.
Но что же делали те трое в комнате? Один вышел, что-то доложил человеку в монокле и побежал в противоположную сторону.
Торговка сыром напротив нашей лавки хлопала себя толстыми руками по бедрам, чтобы согреться. А тетя, пододвинув кресло к окну, отчего мне сразу стало хуже видно, причитала:
– Все это плохо кончится… Уж раз началось… Канальи все до единого, вот оно что… Подай-ка мою шаль, Жером…
Это продолжалось битых два часа. Туман не рассеивался. Люди двигались в сыром облаке, из носу у них текло, руки коченели, хозяйки с сетками и сумками ходили от прилавка к прилавку, щупая и прицениваясь, чтобы потом с горделивым видом отойти под насмешки торговок. По-моему, никто лучше меня не изучил все жесты, всю игру физиономий женщин, закупающих на рынке припасы, – и тех, что приходят сюда со служанкой, и тех, которые, подобно мадам Рамбюр, полчаса колеблются, прежде чем купить несчастную парочку камбал, мысленно предаваясь мучительным подсчетам.
Но как появились здесь те, другие? Кто им сообщил? Откуда они взялись? Во всяком случае, неподалеку от кафе постепенно собралась кучка мужчин – мужчин в картузах, плохо одетых, с жесткими лицами, из тех, что в моем представлении перерезают сухожилия лошадям или шагают по улицам, неся транспаранты.
И почти одновременно с ними появились полицейские в форме, прогуливавшиеся взад и вперед с делано небрежным видом и не спускавшие с них глаз.
И те и другие насторожены, но они словно подбивали друг друга, словно бросали друг другу вызов:
– А ну, посмей, начни!
– Нет, это вы начните!
Тетя, подойдя к лестнице, крикнула:
– Генриетта!.. Генриетта!
– Иду!..
Матушка прибежала расстроенная.
– Что там случилось?
– Никто не знает… У мадам Рамбюр на квартире полиция, делают обыск. Наверное, из-за сына… Простите, тетя, но в лавке народ…
В половине одиннадцатого полиция наконец ушла; не полиция в форме, а те двое, что с восьми утра находились в доме и чьи штиблеты и брюки я то и дело видел; почти полчаса они сидели, беседуя с мадам Рамбюр, и толстяк держал на коленях записную книжку.
Господин с моноклем удалился один, словно не имел с теми ничего общего, но наверняка они где-нибудь подальше встретились, и теперь-то я не сомневаюсь, что это был какой-то высший чин, не исключено даже – помощник префекта.
Три… пять… шесть полицейских! К одиннадцати часам их стало уже восемь; они прохаживались парами, стараясь занять весь тротуар, и я догадывался, что они повторяют:
– Проходите… Проходите… Не задерживайтесь…
Небо приняло грязно-желтый оттенок, словно сегодняшние волнения на рынке испачкали даже туман, и я заметил, что фонари не погашены, что тоже придавало этому дню нечто совсем необычное.
Неожиданно мадам Рамбюр подошла к окну и повесила черную занавеску. А что же делает Альбер в темной комнате, недоумевал я, не сообразив, что можно зажечь лампу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Лурд – французский городок в Пиренеях, где в 1858 году четырнадцатилетней местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. С тех пор Лурд стал популярным местом паломничества.