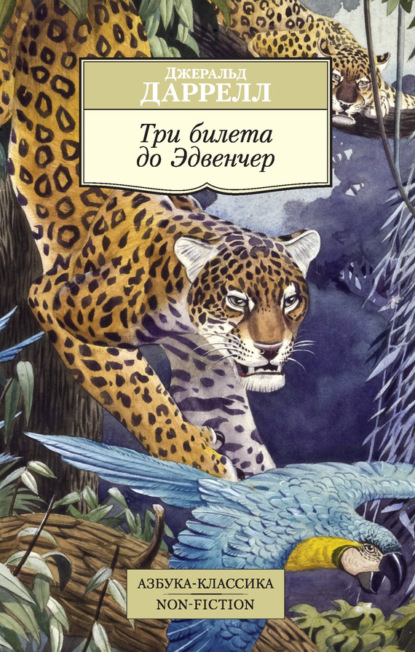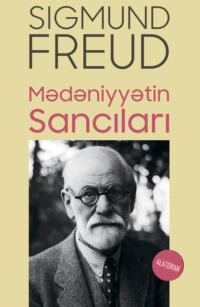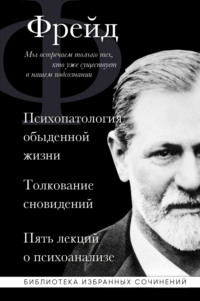Остроумие и его отношение к бессознательному

Полная версия
Остроумие и его отношение к бессознательному
Жанр: книги по психологиизарубежная психологияклассики психологиипрактика психологиипсихоанализостротысновиденияпсихоаналитикатеория Фрейдачувство юморабессознательное
Язык: Русский
Год издания: 1905
Добавлена:
Серия «Азбука-Классика. Non-Fiction»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу