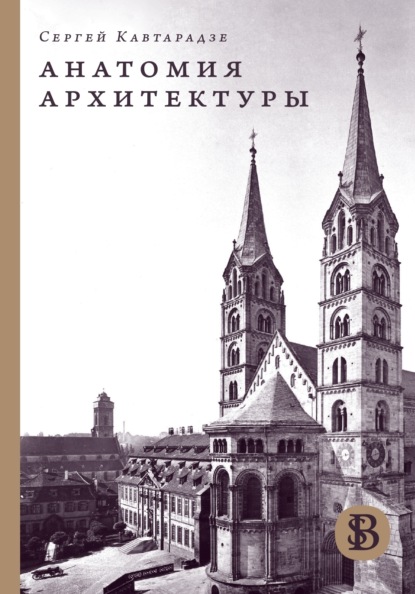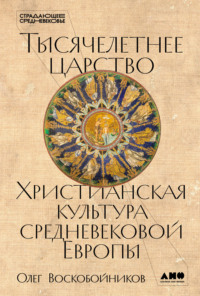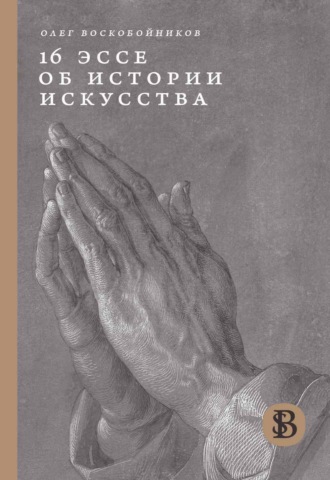
Полная версия
16 эссе об истории искусства
Слово ученого или критика не должно подменять собой зримый образ – оно должно пробудить в слушателе или читателе способность понять изображение, вступить с ним в диалог, опираясь как на полученные технические знания о предмете, так и на собственный эмоциональный настрой. Историк искусства стремится передать свое переживание-понимание, свою интеллектуальную эмпатию. Для этого он пользуется как специфическим профессиональным языком, так и приемами риторики – иногда осознанно, иногда благодаря врожденному таланту. В любом случае результат таков, что постоянная работа с высококачественной, по-настоящему аналитической искусствоведческой литературой совсем не проста, требует долгого привыкания и медленного чтения в сочетании с таким же медленным рассматриванием описываемого памятника.
Художник, естественно, имеет полное право высказываться о своем творении, от подписи (вроде ванэйковских «Ян из Эйка был здесь» или лаконичного и выразительного «Как я могу») до развернутых комментариев, дневников, трактатов или, в Новейшее время, опубликованных в прессе интервью. Но мы должны четко представлять себе статус конкретного высказывания автора о своем произведении – хотя бы потому, что это суждение о самом себе. Начиная с Леона Баттисты Альберти (с 1435 г.) европейские художники стали осознавать свою интеллектуальную и профессиональную автономию. Поэтому иные стали выражаться в трактатах, письмах сильным мира сего, иногда стихах, громких заявлениях по банальным вопросам. Иногда в этих текстах – по-настоящему ценные размышления о смысле творчества, о мире, человеке и Боге. Иногда – более или менее удачно, ради рекламы, скомпонованные трюизмы.
Авангардные архитекторы XX века много рассуждали о практических нуждах архитектуры, о ее включенности в жизнь людей, о ее великом будущем, которое они, архитекторы, призваны выстроить – причем выстроить буквально, на глазах у всех и желательно без стеснения в средствах. Когда читаешь эти высказывания одно за другим в толковой антологии, в хороших переводах, складывается целая теоретическая система современной архитектуры, философия искусства, образ XX столетия. Эти тексты нетрудно сопоставить с постройками, и мы действительно увидим, как воплощаются в них идеи мыслящих архитекторов. Но не следует забывать, что художнику, как всякой по-настоящему творческой личности, важно донести свое вдение любого вопроса, а то и доказать, что он что-то свершил и ждет обещанного или готов свершить, если заказчик не поскупится.
Таков рынок. То, что расскажет о своем «Щенке» Джефф Кунс – лишь одна из интерпретаций его творчества, лишь лепта, пусть и важная, в наше понимание и конкретного «Щенка», и китча в целом. Важно также то, где именно и для кого он высказывается: на аукционе, в кабинете у возможного покупателя, в интервью журналисту The New York Times или за семейным ужином. Неслучайно многие художники, напротив, не любят разглагольствовать о смысле своих творений, а скромно предлагают «просто смотреть», «наслаждаться», «молиться» или «купить». Неслучайно также великий художник редко бывает великим же писателем или философом, что не мешает ему, однако, владеть пером, быть эрудитом или глубоким мыслителем. Микеланджело-скульптор «похож» на Микеланджело-поэта, современники вполне буквально обожествляли все стороны его творческого гения, понимая несносность характера. Но его стихи не истолковывают ни его статуи, ни купол базилики Св. Петра. Микеланджеловский сонет – одно, «Давид» – другое. Фигуративное, или образное, мышление художника – во все времена и во всех цивилизациях – принципиально отличается от мышления писателя, и тем более отличаются выразительные средства, которыми они пользуются в своем творчестве, ища отклика в душах зрителя и читателя.
Если наше описание не заменяет собой произведение искусства и ничего не меняет в его бытии, зачем тогда оно вообще нужно? Не стоит ли попросту смотреть и наслаждаться? Действительно, любой посетитель музея или турист в соборе имеет такое же право на рассматривание картины или витража, как всякий умеющий читать имеет право на Пушкина, а читающий по-русски к тому же поймет его в оригинале. И, скорее всего, получит удовольствие. Однако понять все тонкости его поэзии или прозы он вряд ли сможет без посторонней помощи – учителя, предисловия в книге, лотмановского или набоковского комментария. Разве не об удовольствии как одной из главных задач искусства говорили и сами художники эпохи Возрождения? Однако общепризнанная красота классики не равняется ее понятности, не гарантирует ей жизнь в нашей культуре и в нас самих. То же относится к произведению изобразительного искусства. Дени Дидро, один из основоположников искусствознания, в 1749 году верно заметил, что «может быть, глазу необходимо научиться видеть, точно так, как языку научиться говорить»[46]. Классик современного искусствознания добавит к этому: «Старинное изображение – это отчет о визуальной деятельности. Нам нужно учиться его читать так же, как нужно учиться читать текст из другой культуры, даже если мы в какой-то степени знакомы с ее языком: и язык, и изобразительная репрезентация – конвенциональные виды деятельности»[47].
Произведение искусства, конечно, наличествует, находится в конкретном месте здесь и сейчас, но оно предварительно должно получить свой высокий статус от круга ценителей. Ведь наличествует любой предмет. В каждом конкретном случае ситуация признания может быть различной, и одна из задач профессиональной истории искусства состоит, среди прочего, в том, чтобы «оценить по достоинству» памятник, мастера, школу, даже целую эпоху, не дать погибнуть или кануть в Лету тому, что оказалось забытым. Это понимал уже Вазари. Подобно тому, как историк решает, что в изучаемом предмете значительно, а что второстепенно, как литературовед отделяет лучшие произведения от менее важных, историк искусства выстраивает систему координат.
За этой системой координат стоит и система ценностей, потому что человечество не придумало ничего более ценного в прямом и переносном смысле, чем произведение искусства. Оно становится твердо определимой величиной лишь в той мере, в какой тверда система ценностей, взявшая на себя задачу назначить конкретному предмету такой исключительный ранг, отделив уникальное от серийного, искусство – от ремесла. Но твердость таких систем зачастую эфемерна, переменчива, они возникают в нас и изменяются без нашего участия, они могут давать сбои или даже лгать. Например, гитлеровский режим в Германии, колыбели наук об искусстве, объявил дегенеративным весь авангард, конфисковал произведения и прибрал их к рукам либо продал в Швейцарии. Советский режим, с одной стороны, декларировал охрану памятников, реформировал музеи за счет национализированных частных собраний и реставрировал иконы, а с другой – взрывал шедевры, жег иконостасы и четверть коллекции Эрмитажа продал, видимо, за ненадобностью, для удовлетворения нужд народного хозяйства.
Однако дело не только в подобных масштабных всплесках вандализма, о которых нам предстоит говорить отдельно, но именно в системах ценностей. Великолепная «Маэста́» Чимабуэ (ок. 1280, 424×276 см) была куплена за пять франков бароном Деноном для императорского музея – Лувра – в 1813 году. Вскоре после падения Наполеона многие произведения, скопившиеся в Париже во время войн, вернулись на прежние места, но флорентийские ценители того времени простили французам эту «безделицу», и она осталась в Лувре. Теперь она, естественно, относится к разряду бесценного, причем в прямом, а не в переносном смысле. У таких произведений цены просто нет и не может быть.
В 1530-е годы папам Клименту VII Медичи и Павлу III Фарнезе, вовсе не варварам, захотелось украсить капеллу, в которой проходил конклав, важнейшую капеллу западнохристианского мира, невиданного масштаба фреской величайшего художника того времени – Микеланджело. Для этого они не побоялись уничтожить фрески учителя Рафаэля – Перуджино, которого в свое время тоже называли «божественным», и разрушить художественное единство ансамбля, складывавшегося в течение пятидесяти лет при предшествующих понтификах и при участии того же Микеланджело. «Страшный суд» – безусловный и неоспоримый шедевр, но вместе с тем его появление – результат такого вмешательства в жизнь памятника, которое даже итальянское искусствоведение не боится называть разрушительным. Невиданный «Страшный суд» показался заказчику более ценным, чем целостность, достоинство, авторитетность памятника, созданного предшественниками, и за этой сменой ценностных ориентиров легко просматривается смена целых великих эпох – Кватроченто и Чинквеченто.
Историк искусства редко может претендовать на единственно верную интерпретацию памятника независимо от его масштаба. Но долг историка искусства – искать интерпретацию адекватную, многоплановую, осторожную, нюансированную. Такую интерпретацию как раз можно назвать верной. Ганс Зедльмайр неслучайно называл ее «асимптотой познания, к которой реальные интерпретации могут лишь приближаться»[48]. Иногда описание может показаться нанизыванием эпитетов, прилагательных, характеристик цветовой гаммы, зигзага линий, соотношения «объемов», «масс», «планов». Это «нанизывание», на самом деле, – единственный способ понять целое через части, а части – через целое, потому что каждое слово в добротном описании должно быть максимально хорошо взвешенным, ошибка в оценке детали влечет за собой разрушение всей интерпретации, точно так же как ошибка в одном действии разрушает решение всего уравнения.
Искусству такого описания и анализа следует учиться прежде всего у классиков науки об искусстве, которая по сей день чужда какой-либо глобализации и тотальному переходу на английский. В странах с развитым искусствознанием язык обладает собственным, зачастую трудно переводимым словарем. Немецкий, благодаря особенностям морфологии и возможности образовывать очень выразительные неологизмы, не впадая в стилистические крайности, на протяжении прошлого столетия был едва ли не важнейшим для историков искусства. Свои преимущества в такой пластичности есть и у французского, итальянского, английского и, конечно, русского языков. Но какими бы гибкими и изобретательными ни были все эти языки, всякий, кто изучает, например, классическое китайское искусство, вынужден начинать с разбора коротких и не известных за рамками китаеведения терминов, за которыми стоит целая художественная вселенная[49]. Поэтому, чтобы не навязать другой цивилизации наши представления об общечеловеческих ценностях или широко распространенных предметах, скажем, о бессмертии или о символике текущей воды, о кресте или о льве, мы должны учитывать и силу, и слабости словесного анализа визуального образа.
Где искусство? In situ, музей, выставка

Чаще всего мы сталкиваемся с произведением искусства в специально созданном для него и для нас контексте – музее. Мы знакомимся либо с постоянной экспозицией, либо с выставкой. Хотим мы того или нет, эта ситуация, конкретные условия демонстрации экспоната сильно влияют на наше восприятие и понимание произведения, на наш диалог с ним. Оно оказывается в окружении других предметов, оно освещено (слабо, сильно, контрастно), оно может быть доступно разглядыванию в деталях или, напротив, отдалено на почтительное и безопасное расстояние. Наконец, оно может сопровождаться более или менее пространным комментарием, которому мы инстинктивно доверяем. Можно и нужно верить музею, но стоит помнить, что до середины прошлого столетия художники очень редко работали для музеев, следовательно, мы изучаем наш предмет в своеобразной «лаборатории», которую кто-то для нас (или вовсе не для нас) построил и наполнил экспонатами. Музей по определению интерпретирует то, что выставляет, а значит и сам становится предметом интерпретации. Он воспитывает, информирует, каталогизирует, формирует культурный бэкграунд, но эффективность этого процесса напрямую зависит от визуальной образованности посетителя, от его готовности не только смотреть, но и видеть, изучать с помощью зрения[50].
В меньшей степени сказанное относится к памятнику архитектуры, который часто выполняет не только эстетическую, репрезентационную, но и практическую функцию: служит храмом, парламентом, магазином, вокзалом. Однако и постройка может быть частично или полностью музеефицирована. И тогда между нами и ею – хранитель древностей, который являет миру вверенное ему сокровище в том виде и в той мере, которые считает подобающими, исторически обоснованными и возможными с точки зрения сохранности объекта. Отсюда – режим посещения. Например, на осмотр всей джоттовской капеллы Скровеньи накануне пандемии выделялось двадцать минут. Что будет в лучшие времена – неизвестно. На недавних юбилейных выставках Рафаэля и Леонардо на каждый зал давалось по несколько минут, после чего посетителя провожали в следующее помещение… Такова сегодняшняя реальность.
Специалисту, коллекционеру или художнику, реже – любому из нас, может посчастливиться оказаться в том помещении или контексте, для которого произведение было создано, или в мастерской художника. Некоторые частные собрания превращаются в общедоступные музеи, сохраняя изначальную, домашнюю, «семейную» структуру: таковы, например, коллекция Фрика в Нью-Йорке, музея Жакмар-Андре в Париже, музей сэра Джона Соуна в Лондоне. Подобные музеи, в которых исключительно важно сочетание всех деталей интерьера с каждым отдельно стоящим, лежащим или висящим произведением, сами по себе представляют памятники музейного дела, коллекционирования, вкусов своих эпох и стран. Это тоже «лаборатории» для историка искусства. Их генеалогию можно возвести если не к Птолемеям и древнеримским аристократам, то уж точно к знатным коллекционерам позднего Средневековья и Возрождения, к «кунсткамерам», cabinets des curiosités раннего Нового времени[51]. Флорентийская Уффици восходит к Медичи, Урбино – к Монтефельтро, Феррарское собрание – к герцогам д’Эсте, Мантуя – к Гонзага, Эрмитаж – к Романовым. Список нетрудно продолжить.
Мастерская – место рождения произведения, потому что в ней работал мастер. Эта связь – вовсе не фигура речи, не метафизика. Уже средневековые художники нередко изображали себя за работой на страницах иллюминированных рукописей и на стенах церквей. Крупные живописцы Нового времени писали свою мастерскую, создавая зачастую настоящие аллегории живописи. Таковы «Менины» Веласкеса (1656), «Художник в своей мастерской» раннего Рембрандта (1629), «Мастерская художника» (известная под разными названиями) Яна Вермеера (1665–1673) и «Мастерская художника» Гюстава Курбе (1855). Значение этих полотен не только в том, что они представляют собой результаты размышления крупнейших мастеров над тем, что и зачем они делают, – зачастую это манифесты целых эпох, школ, направлений. Но еще они подсказывают нам дистанцию между зрителем и мастером, между миром обыденным и миром художественным.

5. Палитра Винсента Ван Гога. Амстердам. Музей Ван Гога
Некоторые художники Новейшего времени, помышляя о собственном наследии, сами превращали свои дома в музеи (Генри Мур, Сальвадор Дали, Жоан Миро́, Дональд Джадд). Иногда за это брались ближайшие наследники, лично знавшие мастеров и создававшие в какой-то степени мемориалы, посмертные «портреты» (Огюст Роден, Гюстав Моро). В таком музее важно понимать, какую именно роль в его планировании сыграл тот, кому он посвящен, как именно его пространство отражает творчество мастера. «Театр-музей» Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас – в полной мере воплощение сюрреалистического мира своего владельца. Он сам его создал и назвал театром, потому что всю жизнь чувствовал себя на сцене, под восхищенными или возмущенными взглядами современников. В богатейшем музее Пикассо в Париже – отличная коллекция работ мастера, но не его личный мир, а именно музейная реконструкция. В доме-музее Рембрандта в Амстердаме почти нет его произведений, но присутствие мастера ощущается благодаря ауре места. В музее Ван Гога в том же городе – выдающаяся коллекция его картин и рисунков, здесь под стеклом выставлена его палитра с засохшей краской, словно помнящая тепло руки (илл. 5). Но искать художника, скорее, стоит в Париже или в Арле: это подсказывают его биография, письма, сюжеты картин.
Итак, место рождения произведения – мастерская, памятника архитектуры – стройка. Но не менее важно для нашего анализа и место предназначения произведения. В традиционных культурах львиная доля художественных усилий направлялась на оформление отношений между людьми и метафизическими силами, например, на храмы, разного рода святилища и домашние алтари. В одном музейном зале мы можем видеть алтарный образ, написанный для церкви, портрет мужчины, созданный для его жены (т. е. предмет интимный, семейный), и, скажем, натюрморт, украшавший столовую какого-нибудь голландца XVII века. Их нахождение в одном зале условно оправдано музеем, показывающим нам мастера или школу в разных «жанрах». Но мы должны мысленно представить себе различные пространства, даже если церковь стояла на той же улице, что и дом того самого голландца. Столовая и спальня – не одно и то же, поэтому портрет и натюрморт не просто иллюстрируют два вида живописи, но отражают разные стороны жизни человека.

6. Гуаньинь в царственном покое. Середина XIII века. Китай, династия Южная Сун. Сейчас: Принстон. Художественный музей Принстонского университета

7. Индуистский храмовый комплекс Шивы Бантеайсрей («Цитадель женщины») в районе Ангкора. Завершен в 967 году. Камбоджа, провинция Сиемреап
Замечательный китайский «Гуаньинь» (изначально – бодхисаттва Авалокитешвара) середины XIII века, находящийся на нижнем, подземном этаже музея Принстонского университета, выставлен с замечательным тактом, на специальном подиуме, он одновременно близок, доступен, но соблюдается и допустимая по отношению к божеству дистанция, его эмоциональное воздействие на зрителя вполне соответствует той религиозной задаче, которую ставили его создатели. Фигура этого андрогинного, вселенского божества пребывает в расслабленной позе царственного достоинства, раджалиласана, поэтому она словно излучает покой и умиротворение[52] (илл. 6). Но, поддаваясь этой игре кураторов и дизайнеров современного музея, мы все же должны понимать, что это именно игра, пусть и глубокая, профессиональная, и что истинное место религиозной статуи – в том священном пространстве, которое она призвана была собою наполнить: без этого «Гуаньиня» святилище уже не святилище – как христианский храм без алтарного образа или иконостаса. Но и статуя в храме – не законсервированный предмет изучения и разглядывания, она живет. В частности, почитаемые образы периодически поновляли: принстонского «Гуаньиня» не раз раскрашивали, а в эпоху Мин (1368–1644) вырезали новые складки на облачении – паридхане.
Я упомянул об «ауре». В качестве характеристики произведения искусства это слово сейчас звучит как минимум неопределенно. Влиятельный мыслитель Вальтер Беньямин еще в 1930-е годы констатировал распад этой важнейшей составляющей искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Он писал, конечно, о репродукции и тираже, но его мысль можно продолжить[53]. Аура, то есть сама суть произведения, есть гарантия его уникальности и его присутствия рядом с нами. Для нашего диалога с предметом очень многое зависит от того, что он находится здесь и сейчас, но находится там же, куда попал по воле создателя или владельца. Потому что исторические обстоятельства могли изменить судьбу предмета, и в новом месте, в новом для себя окружении он – уже «не тот». Великолепные кхмерские рельефы X–XII веков совсем по-разному смотрятся в Национальном музее Камбоджи, по-своему замечательном, и среди леса, в лучах рассветного солнца, на стенах комплекса Бантеайсрей (илл. 7). Правда, оказываясь на месте, один на один с шедевром, понимаешь, что в музее сохранность произведений с очень хрупкой резьбой находится под меньшей угрозой. Андре Мальро, вслед за Беньямином, скептически констатировал: «Любое выжившее произведение искусства увечно – и прежде всего оно оторвано от своего времени. <…> И готический мир был настоящим, а не историческим временем; коль скоро место веры занимает у нас любовь к искусству, воссоздание в музее соборной капеллы теряет смысл, ибо до того мы уже превратили в музеи сами соборы. Если бы нам довелось испытать те чувства, которые охватывали первых зрителей египетской статуи, романского распятия, мы не смогли бы оставить их в Лувре. Мы все больше хотим познать эти чувства, не отрешаясь, впрочем, от своих собственных, и выгодно приобретаем знание без опыта, поскольку оно требуется нам лишь для того, чтобы поставить его на службу произведению искусства»[54].
Зачастую произведения искусства и целые коллекции могут быть предметом спора или, напротив, сотрудничества религии и государства. Сокровищница средневекового храма в наши дни представляет собой своеобразный компромисс между музеем и изначальным обладателем религиозных ценностей, превратившимся в секуляризованном государстве в хранителя национальных (или интернациональных) древностей. Посещением таких сокровищниц не следует пренебрегать не только потому, что множество уникальных предметов можно найти только там, но и ради той самой «ауры», чувствительность к которой историк искусства должен в себе вырабатывать.
Приведем характерный пример: сокровищница собора в городе Монца, недалеко от Милана. Этот город – одна из «столиц», правильнее сказать – ставок лангобардов, завоевавших Италию в 568 году (наряду с Чивидале, Павией, Сполето, Беневенто). Здесь проводила лето королева Теоделинда (590–616), первая из лангобардов-ариан пошедшая на союз с Римской католической церковью. Она основала монастырь Св. Иоанна Крестителя и, как полагалось знати, одарила его мощами святых и драгоценными литургическими предметами – ars sacra. Благодаря ее личному авторитету и обаянию монастырь, превратившийся в ее усыпальницу, процветал и стал хранителем знаменитой железной короны лангобардов, дававшей средневековым императорам ключ к Итальянскому королевству. Корона и сейчас хранится в алтаре посвященной королеве капеллы, покрытой великолепными росписями середины XV века, и демонстрируется на почтительном расстоянии с особым, почти ритуальным трепетом. Это редчайший случай, когда корону можно увидеть там, где она выполняла свои функции на протяжении тысячелетия. Фрески же художников из семейства Дзаваттари, повествующие о жизни к тому времени вполне легендарной правительницы, свидетельствуют о том, что их заказчики, миланские герцоги Висконти, понимали историческое значение места и решили достойно оформить его ауру.
Но дело не только в короне и в этом самом сохранном памятнике готической живописи Италии. Здесь же, в крипте, можно видеть десятки предметов, которые королева и ее потомки дарили храму. Подавляющее большинство таких собраний раннего Средневековья погибло, пострадал, конечно, и Монца. И все же, благодаря присутствию здесь многих уникальных предметов, она, если воспользоваться термином Пьера Нора, – настоящее место памяти Европы[55]. Уникальная миниатюрная бронзовая группа, изображающая курицу с семью цыплятами, была найдена в Средние века в могиле королевы. Возможно, она символизировала Церковь и паству, и Теоделинда пожелала засвидетельствовать свою верность религии этой последней волей. Она же собрала коллекцию небольших ампул из сплава свинца и олова, в которых в ее время возили масло из лампад, горевших над мощами мучеников в Святой земле. Шестнадцать из них сохранились, и, хотя по материалу это вовсе не драгоценности, для историка раннехристианской иконографии их значение вполне сравнимо с мозаиками. Две стороны такой ампулы отливались в каменной форме отдельно и затем сваривались. Тонкость же рельефа, при том что перед нами, по сути, отливки, свидетельствует о том, что резчики по камню прекрасно знали язык восточнохристианской живописи и ювелирного искусства своего времени. Монументальность и гармоничность некоторых композиций на ампулах (Распятие, Вознесение, Поклонение Младенцу, Воскресение) говорит о том, что они вдохновлялись мозаиками и фресками, и этот синтез миниатюрных и крупных форм очень важен для понимания сути средневекового искусства в целом. Историк же именно здесь, в Монце, воочию видит, как до персидского завоевания 614 года святость Палестины передавалась по всему Средиземноморью в таком вот материальном виде с помощью паломников[56].
Можно назвать еще несколько похожих по духу, историческому значению и богатству мест памяти: Аахен, Кведлинбург, Эссен, Кёльнский собор в Германии, музеи Страсбургского и Реймсского соборов, Сент-Фуа в Конке во Франции, собор в Дареме в Северной Англии и, конечно, недавно успешно реконструированный Музей собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.