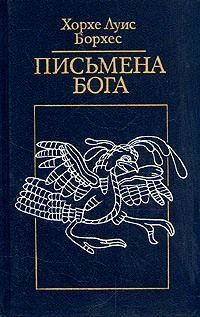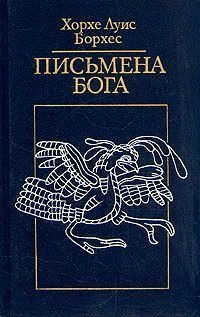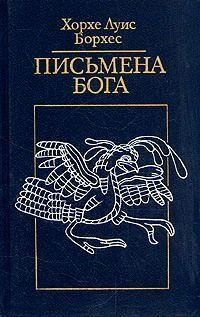Полная версия
Зеркало загадок
Я не намерен скупиться на цитаты, ведь мне известно, что поэма Луссича, можно сказать, не издана.
Вызов читается уже в таких вот десимах:
Называют меня ухарь,в драке я не уступлю,потому что не терплюпения клинка над ухом.Я из пампы, волен духоми свободой наделенс той поры, как вышел вониз мамашиного пуза.Никому я не обуза,только воля мне закон.На ноже моем узоры,надпись украшает сталь:«Если в ножнах я привстал,кто-нибудь согнется скоро».Только этому сеньорудоверяю жизнь свою.С ним я лих в любом бою,с ним я лев, гляжу надменно,сердце бьется ровно, мерно,волю страхам не даю.Лассо я крутить мастак,есть и удаль, и сноровка,с болас управляюсь ловко,кто еще сумеет так?И копье, скажу без врак,я кидаю всем на диво.Меж людей хожу спесиво,отвечаю резко, грубо,только сабля мне не люба:насмерть рубит, некрасиво.Вот другие примеры, на сей раз с точными или выборочными соответствиями. Луссич пишет:
Были кони, домик был,ранчо, овцы для достатка…я держал удачу хватко,а теперь и след простыл!Дом стоял – пожары взяли,был загон – и тот исчез,рухнул старенький навес…Так мне люди рассказали.Все проглочено войной,от былого лишь руиныотыщу, когда с чужбинывозвернусь я в край родной.Эрнандес напишет:
Жили мы с женой в достатке:дом был, утварь и стада.Как птенцы в тепле гнезда,мирно подрастали дети…Нынче я один на свете —все исчезло без следа[4].Луссич напишет:
Сбрую я собрал толково:удила – к кольцу колечкои нарядная уздечкаперевитая готова;из коровьей кожи новыйпотник толстый я припас,и попонка – в самый раз;сбруя хоть не для походов,на коня не жаль расходов,не свожу с красавца глаз.Раскошелился немало,я не скряга – это точно,шерстяное выбрал пончо,чтоб лодыжки прикрывало,а чтоб тело отдыхало —огроменную подушку;я мечтал, что заварушкупережду в тепле и холе,сберегу от грозной доликаждый гвоздь и безделушку.Шпоры звонкие достал,бич с клеймом на рукоятке,путы, болас, а для схватки —лучший дорогой кинжал.В шитый пояс запихалдесять песо полновесных:с грузом этих денег честныхбуду принят как игрок,карты – тоже мой конек,обскачу умельцев местных.Стремена и пряжки прочны,бляхи на ремнях – как пламя,луки вышиты гербамиславной армии Восточной.Не видал, скажу вам точно,краше и нарядней сбруи!Ни словечком не совру я —конь был чудо как хорош.Эти мысли мне как нож,прочь гоню тоску пустую.Ярче солнца жеребец,легче света, крепок, ловок,и для ихних потасовокбыл он слишком молодец!Жаром пышет удалец,а подковы, что на нем,отливают серебром,как луна над горным кряжем.Был я счастлив, прямо скажем:я гордился тем конем.Эрнандес напишет:
Оседлал я вороного.Вот конек был – ей-же-ей,лучших я не знал коней:с ним на скачках в Айякучоденег выиграл я кучу.Конь для нас всего главней.Я навьючил вороноговсем накопленным добром:пончо взял, стянул ремнемвойлоки да одежонку…И свою оставил женкупочитай что нагишом.Сбрую всю свою и снастьприхватил я в путь-дорогу:лассо, болас, хлыст, треногу…Полной чашей был мой дом.Верьте, нет, но я, ей-богу,не всегда был бедняком[5].Луссич пишет:
Чтоб сыскать себе ночлег,нам даны леса и горы:где зверье находит норы,скроется и человек.Эрнандес напишет:
Где бы ни был днем, а к ночия пускался в путь-дорогу:может, разделю берлогуя с каким-нибудь зверьем,не хотелось к людям в домприносить с собой тревогу[6].Легко заметить, что в октябре-ноябре 1872 года Эрнандес до сих пор был tout sonore encore[7]стихами, которые в июне того же года ему дружески посвятил Луссич. Так же легко заметить лаконичность стиля Эрнандеса, его преднамеренную бесхитростность. Когда Мартин Фьерро перечисляет: «дом был, утварь и стада», а потом, упомянув о потерях, восклицает:
Верьте, нет, но я, ей-богу,не всегда был бедняком, —он знает, что городские жители обязательно одобрят такую простоту. Луссич, более спонтанный или более опрометчивый, никогда не ведет себя таким образом. Его литературные притязания были совсем иного рода, они, как правило, не шли дальше имитации самых коварных нежностей «Фауста»:
Я завел себе цветок,так заботился душевно,что наряд его волшебныйв целый месяц не поблёк.Ах, забвения лишь час —лепесточки облетели.Так и память о потереобескровливает нас.Во второй части, опубликованной в 1873 году, подражания «Фаусту» чередуются с кальками из «Мартина Фьерро», как будто дон Антонио Луссич затребовал свое имущество обратно.
Продолжать сопоставление не имеет смысла. Мне кажется, приведенного выше достаточно, чтобы подтвердить вывод: диалоги Луссича – это черновик окончательной версии Эрнандеса. Черновик непроработанный, дряблый, случайный, но при этом полезный и пророческий.
И вот я приступаю к нашему шедевру: к «Мартину Фьерро».
Подозреваю, что не было другой аргентинской книги, которая подвигла бы критиков на такое изобилие бесполезных замечаний. Ошибки с нашим «Мартином Фьерро» подразделяются на три множества: первое – снисходительные похвалы; второе – грубое неудержимое восхищение; третье – исторические либо филологические отступления. Первый случай традиционен: его прототип – это благожелательная некомпетентность газетных заметок и надписей, присвоивших себе место на переплете первого издания, а продолжателям несть числа. Такие критики, неосознанно принижающие предмет своей похвалы, всегда рады отметить в «Мартине Фьерро» отсутствие риторики – это выражение служит им для обозначения неявной риторики; это все равно что называть архитектурой стихийные бедствия, обвалы и разрушения. Они воображают, будто книга может не принадлежать словесности: «Мартин Фьерро» нравится им в пику искусству и в пику интеллекту. Весь результат их трудов целиком помещается в этих строках Рохаса: «С тем же успехом можно презирать воркование голубки, потому что это не мадригал, или песню ветра, потому что это не ода. Таким образом, эту живописную пайяду следует оценивать во всей грубости ее формы и в наивности ее содержания, как простейший голос природы».
Вторая группа (завышенные похвалы) до сего дня породила только ненужное жертвоприношение «предшественников» и вымученное тождество с «Песнью о моем Сиде» и с Дантовой «Комедией». Выше, когда я писал о полковнике Аскасуби, я характеризовал и первый род критики; о втором достаточно сказать, что основной метод здесь – это выискивание тяжелых или неблагозвучных стихов в древних эпопеях, как если бы сходства в ошибках могли что-то доказать. В остальном же все эти трудоемкие писания основаны на одном-единственном предрассудке: подразумевается, что определенные литературные жанры (в данном случае – эпос) имеют формальное преимущество перед другими. Наивная и сумасбродная потребность видеть в «Мартине Фьерро» эпопею стремится – даже на символическом уровне – вместить вековую историю страны с ее поколениями, несчастьями, агониями, с битвами при Тукумане и Итусаинго, в приключения одного поножовщика 1870 года. Ойуэла («Антология испаноамериканской поэзии», т. 3, примечания) уже разоблачил этот комплот. Он отмечает: «Сюжет „Мартина Фьерро“ – это ненациональная проблема, ни в коем случае не проблема расы, он никак не связан с нашими корнями как народа и как политически оформившейся нации. В „Мартине Фьерро“ речь идет о превратностях горестной судьбы гаучо последней трети прошлого века, во время упадка и близящегося исчезновения этой фигуры – нашей, местной, преходящей и недолговечной, перед лицом сокрушающего его общественного устройства, – и эти превратности рассказаны и спеты самим главным героем».
Третья группа интересна своими благими намерениями. Эти критики, например, чуть-чуть грешат против истины, утверждая, что «Мартин Фьерро» открывает нам пампу. Дело в том, что нам, людям города, равнина может быть явлена только через постепенное открытие, которое по мере возможности обогащает наш опыт. Таков метод романов воспитания пампой: «The Purple Land» (1885) Хадсона и «Дон Сегундо Сомбра» (1926) Гуиральдеса, в которых герой шаг за шагом осваивает жизнь вне города. Не таков метод Эрнандеса, который сознательно выносит за скобки саму пампу и ее каждодневных обитателей, нигде не давая подробных описаний, – такое умолчание выглядит правдоподобно, ведь у Эрнандеса один гаучо говорит для других гаучо. Возможно, кто-то захочет оспорить мою правоту этими строками и теми, что идут за ними:
Гаучо еще недавновольным был в родном краю;прокормить он мог семьюсам, не кланяясь, не клянча,скот был у него и ранчо.Жили что в твоем раю![8]Насколько я могу судить, здесь говорится не о жалком золотом веке, как мы его понимаем; здесь говорится о потерях рассказчика, о его переживании тоски в настоящем.
Рохас оставляет в будущем место только для филологического исследования «Мартина Фьерро» – то есть для меланхолических рассуждений о разнице между cantramilla и contramilla, более уместных в бесконечной длительности преисподней, нежели в довольно-таки мимолетном времени нашей жизни. В этом конкретном времени (как и во всех других) для «Мартина Фьерро» типично намеренное приглушение местного колорита. В сравнении с лексикой «предтеч» словарь Эрнандеса как будто избегает отличительных особенностей языка пампы и пользуется обычной sermo plebeius. Я помню, что в детстве удивлялся простоте языка «Мартина Фьерро», мне казалось, что это речь куманька-креола, а не крестьянина. Для меня нормой деревенской речи был «Фауст». Теперь, когда я чуть лучше знаю деревню, превосходство высокомерного поножовщика из пульперии над сдержанным трудолюбивым крестьянином для меня очевидно, и дело не столько в языке, сколько в неумолчной похвальбе и напористой интонации.
Еще один способ обойти вниманием саму поэму – это пословицы. Эти дешевки – так категорично характеризует их Лугонес – не раз и не два объявлялись важнейшей составляющей книги. Выводить этику «Мартина Фьерро» не из судеб героев, а из механических наследственных побасенок, нарушающих рассказ, или же из привнесенных сентенций, звучащих в конце, – это заблуждение могло быть порождено только преклонением перед традицией. Я же предпочитаю видеть в этих наставлениях простое стремление к правдоподобию, указания на прямую речь. Воспринимать их буквально – значит обрекать себя на нескончаемые противоречия. Так, в Песни седьмой «Мартина Фьерро» есть копла, в полной мере характеризующая крестьянина:
Я факон отер травою,молча отвязал коня,сел в седло и ехал шагомвплоть до наступленья дня[9].Нет необходимости приводить долгое описание: мужчина совершил убийство и не испытывает сожаления. Тот же мужчина позже предлагает нам такое моральное суждение:
Пролил кровь я и поныневъявь терзаюсь и во сне.Память о моей вине,угрызенья не ослабли:словно огненные каплидушу прожигают мне[10].Подлинная этика креола содержится в повествовании: она подразумевает, что пролитая кровь – вещь не слишком памятная, а мужчинам случается убивать. (В английском языке есть выражение «to kill his man», что буквально переводится как «убить своего мужчину», а расшифровывается как «убить того мужчину, которого должен убить всякий мужчина».) «На каждом из нас в мое время висело по смерти» – вот такое милое сетование мне довелось услышать как-то вечером от одного пожилого сеньора. Не забуду я и встречу с одним сеньором из предместья, который совершенно серьезно уверил меня: «Сеньор Борхес, я много раз сидел в тюрьме, но всегда за убийство».
Теперь, отбросив неудачные традиционные пути, я подхожу к рассмотрению самой поэмы. Начиная с решительного стиха, который ее открывает, почти вся она написана от первого лица. Этот факт для меня принципиально важен. Фьерро рассказывает свою историю, начиная с возраста полной мужской зрелости, со времени, когда мужчина уже есть, а не с того податливого времени, когда жизнь его только ищет. Такое начало нас многого лишает: мы ведь уже читали Диккенса, изобретателя детства, и взрослым сложившимся характерам мы предпочитаем становление. Нам хотелось бы знать, как подходят к тому, чтобы стать Мартином Фьерро…
Каковы намерения Эрнандеса? Рассказать нам историю Мартина Фьерро, а вместе с этой историей – и его характер. Доказательством тому служит любой эпизод. «В прошлом время любое», которое, как правило, «лучше всегда», из Песни второй – это правда о чувствах героя, а не о скудной жизни на ранчо во времена Росаса. Яростная схватка с негром в Песни седьмой нужна не ради ощущения схватки и не ради мгновенных проблесков и теней, которые остаются в памяти от случившегося события, а ради крестьянина Мартина Фьерро, который об этом рассказывает. (Рассказывает под гитару, как любил напевать вполголоса Рикардо Гуиральдес, поскольку неумолчное треньканье хорошо подчеркивает намерение отобразить печальную отвагу.) Это подтверждается всей поэмой; я выделю лишь несколько строф. Начну с исчерпывающего описания одной судьбы:
Гринго был других не хуже,всё болтал о корабле,утопили его в луже,как разносчика заразы.Был он малость неуклюжий,как жеребчик светлоглазый.Среди множества горестных обстоятельств – жестокость и ненужность этой смерти, такое правдивое воспоминание о корабле, нелепость утопления посреди пампы в судьбе человека, который целым и невредимым пересек море, – наибольшего эффекта в этой строфе достигает прибавка, это трогательное воспоминание: «Был он малость неуклюжий, / как жеребчик светлоглазый», столь значимое в речи рассказчика, который уже закончил очередную историю, но память воскрешает для него еще одну подробность.
И эти строки тоже неслучайно даны от первого лица:
На колени я упал,за него молил Иисуса,сам сражен как наповал,не снеся такого груза.Свет в глазах едва мерцал:мертвым я увидел Круса.«Мертвым я увидел Круса». Фьерро, стыдясь своей боли, уверяет, что его товарищ погиб, и притворяется, что изобразил эту погибель.
Такое утверждение реальности кажется мне важным для книги в целом. Тема ее – повторюсь – не невозможное отображение всех событий, которые проносятся в человеческом сознании, и не та их искаженная малая часть, которая может сохраниться в памяти, а рассказ крестьянина, человека, который раскрывает в этом повествовании себя. Таким образом, этот проект рассчитан сразу на два вымысла: изобретаются и сами эпизоды, и чувства героя, чувства героя в прошлом и непосредственно во время повествования. А такой маятник мешает ясному изложению некоторых подробностей: мы, например, не знаем, явилось ли искушение избить женщину убитого негра пьяной жестокостью или – мы бы предпочли второй вариант – отчаянием после пережитого потрясения, и эта неясность мотивов лишь добавляет подлинности. Что касается череды событий, меня не интересует их подробный разбор, я убежден в главном: в романной природе «Мартина Фьерро». «Мартин Фьерро» – не что иное, как роман, его романное построение могло быть как инстинктивным, так и преднамеренным; роман – это единственное определение, способное в точности передать тот род наслаждения, который дает нам «Мартин Фьерро», к тому же оно непротиворечиво согласуется с датой написания. А дата, отмечу на всякий случай, – это самый романный век, какой только может быть: век Достоевского, Золя, Батлера, Флобера, Диккенса. Я привожу эти имена как самые очевидные, однако сам я предпочитаю объединять нашего креола с еще одним американцем, в жизни которого тоже так много значили случай и воспоминания: с задушевным и неожиданным Марком Твеном, создателем «Гекльберри Финна».
Я сказал, что это роман. Мне могут напомнить, что античные эпопеи представляют собой прообраз романа. Пусть так, но сближать книгу Эрнандеса с этой примитивной категорией – значит погружаться в бессмысленную игру с надуманными совпадениями, значит отринуть всякую возможность исследования. Свод законов той эпохи – героические размеры, вмешательство богов, исключительный политический статус героев – здесь неприменим. А вот обстоятельства романа – да, применимы.
Одна из последних версий реальности
Франсиско Луис Бернардес только что опубликовал пылкую статью об онтологических построениях, изложенных в книге «The Manhood of Humanity» («Зрелость человечества») графом Кожибским. Книги этой я не знаю и при дальнейшем общем рассмотрении плодов метафизической мысли названного аристократа вынужден следовать за ясным рассказом Бернардеса. Разумеется, я не собираюсь подменять наступательный тон его прозы своим, неуверенным и разговорным. Дословно привожу поэтому первый параграф изложения:
«Жизнь, по Кожибскому, имеет три измерения: длину, ширину и глубину. Первое измерение соответствует растительной жизни. Второе – животной. Третье – человеческой. Жизнь растений – это жизнь в длину. Жизнь животных – жизнь в ширину. Жизнь человеческих особей – жизнь в глубину».
Позволю себе совсем простое замечание: я не очень доверяю познаниям, в основе которых – не мысль, а всего лишь удобство классификации. Таковы три наших условных измерения. Говорю «условных», поскольку ни одно из них по отдельности не существует: нам никогда не даны поверхности, линии или точки, всегда – лишь объемы. Между тем ради вящего словесного блеска нам здесь предлагают объяснить три условные разновидности органического мира: растение – животное – человек – с помощью трех столь же условных измерений пространства: длины – ширины – глубины (последняя переносно обозначает время). Не думаю, чтобы простая симметрия двух созданных людьми классификаций смогла объяснить не поддающуюся счету, непостижимую реальность и представляла собой что-нибудь кроме пустой арифметической забавы. Продолжу рассказ Бернардеса:
«Жизненная сила растений выражается в тяге к солнцу. Жизненная сила животных – в стремлении к пространству. Первые – статичны. Вторые – динамичны. Закон жизни растений с их прямыми путями – полная неподвижность. Закон жизни животных с их путями по кривой – свободное движение.
Различие между растительной и животной жизнью лежит, по сути, в одном: в отношении к пространству. Растения не обращают внимания на пространство, животные стремятся им овладеть. Первые накапливают энергию, вторые поглощают пространство. Над обоими этими существованиями – стоячим и бродячим – возвышается человеческое существование в его высшем своеобразии. В чем состоит высшее своеобразие человека? В том, что, подобно растениям, накапливающим энергию, и животным, поглощающим пространство, человек присваивает время».
По-моему, эта пробная троичная классификация – вариант или заимствование четверичной классификации Рудольфа Штейнера. Последний, в своем единстве с миром более великодушный, идет не от геометрии, а от естественной истории и видит в человеке своего рода каталог или оглавление внечеловеческих форм жизни. Простое инертноесостояниеминералов соответствует у него умершему человеку; затаенное и безмолвное растительное – человеку спящему; сиюминутное и беспамятное животное – грезящему. (Истина, грубая истина состоит в том, что мы расчленяем вечные останки первых и используем сон вторых, чтобы их съесть или украсть у них какой-нибудь цветок, так же как низводим до кошмаров грезы третьих. Мы отнимаем у коня принадлежащее ему мгновение настоящего – безысходный миг величиной с мошку, миг, который не надставлен воспоминаниями и надеждами, – и впрягаем его в оглобли повозки или отдаем в распоряжение конюха либо пресвятой федерации возчиков.) Господином над тремя этими ступенями мироздания выступает, по Рудольфу Штейнеру, человек, обладающий, кроме всего прочего, личностью, то есть памятью прошлого и предощущением будущего, иначе говоря – временем. Как видим, предназначая роль единственных обитателей времени, единственных провидцев и историков людям, Кожибский – не первый. Его – казалось бы, столь же поразительный – вывод о том, что животные наделены чистой актуальностью, или вечностью, и в этом смысле пребывают вне времени, опять-таки не нов. Штейнер об этом тоже говорил; Шопенгауэр постоянно возвращается к подобной мысли в своем, скромно именуемом главой трактате, вошедшем во второй том «Мира как воли и представления» и посвященном смерти. Маутнер («Wörterbuch der Philosophie»[11], III, с. 436) останавливается на этом с иронией. «Кажется, – пишет он, – животные наделены лишь смутным предощущением временнóй последовательности и протяженности. Напротив, человек – особенно если он еще и психолог новейшей школы – может различать во времени два ощущения, которые разделяет одна пятисотая секунды». Гаспар Мартин, занимающийся метафизикой у нас в Буэнос-Айресе, ссылается на эту вневременность животных и детей как на общеизвестную истину. Он пишет, что идея времени у животных отсутствует и впервые появляется лишь у людей развитой культуры («Время», 1924). Принадлежит ли она Шопенгауэру или Маутнеру, теософской традиции или, наконец, Кожибскому, истина в том, что представление о существующем во времени и упорядочивающем время человеческом сознании, которому противостоит вневременной мир, по-настоящему грандиозно[12].
Продолжу изложение: «Материализм говорит человеку: „Пространство принадлежит тебе – владей им“. И человек забывает свое подлинное призвание. Благородное призвание собирателя времени. Иными словами, человек предается завоеванию видимого мира. Завоеванию людей и территорий. Так рождается ошибочная мысль о прогрессе. И как ее безжалостное следствие – призрак прогресса. Рождается империализм.
Необходимо поэтому вернуть человеческой жизни третье измерение. Нужно придать ей глубину. Следует указать человечеству дорогу к его разумной, истинной судьбе. Чтобы человек присваивал себе века, а не километры. Чтобы жизнь человека стала интенсивной, а не экстенсивной».
Вот этого я, признаюсь, совершенно не понимаю. По-моему, противопоставление двух неопровержимых категорий, пространства и времени, – явная ошибка. Как известно, у этого заблуждения длинная родословная, и самое звучное имя среди его предков – это имя Спинозы, который наделил свое равнодушное божество, Deus sive Natura[13], мышлением (то есть пониманием времени) и протяженностью (то есть пространством). Думаю, для настоящего идеализма пространство – одна из форм, которые в совокупности и составляют оцепенелое течение времени. Пространство – такое же событие, как прочие, и потому, вопреки естественному согласию оппонентов метафизики, располагается во времени, а не наоборот. Иными словами, расположение в пространстве – выше, слева, справа – один из частных случаев протяженности наряду с другими.
Поэтому накопление пространства не противостоит накоплению времени: первый процесс – одна из разновидностей второго и единственно для нас возможного. Англичане, в результате случайного или гениального порыва письмоводителя Клайва либо Уоррена Гастингса завоевавшие Индию, накапливали не только пространство, но и время. Иначе говоря, опыт: опыт ночей, дней, равнин, откосов, городов, коварства, героизма, предательства, страдания, судьбы, смерти, чумы, хищников, радостей, обрядов, космогонии, диалектов, богов, благоговения перед богами.
Но вернемся к метафизике. Пространство есть событие во времени, а не всеобщая форма интуиции, как полагал Кант. Целые области бытия – сферы обоняния и слуха – обходятся без пространства. Подвергая доводы метафизиков беспощадному анализу, Спенсер («Первоосновы психологии», часть седьмая, глава четвертая) убедительно подтверждает эту независимость и во многих параграфах развивает ее, доводя до абсурда: «Считающие, будто запах и звук принадлежат пространству как форме интуиции, легко убедятся в своей ошибке; пусть они попытаются найти левую или правую сторону звука или попробуют себе представить изнанку запаха».
Шопенгауэр – с меньшей экстравагантностью, но с куда большим чувством – уже провозглашал эту истину. «Музыка, – писал он, – такое же непосредственное воплощение воли, как мироздание» (цит. соч., том первый, глава 52). Иными словами, музыка может существовать и без окружающего мира.
Продолжая и упрощая два этих знаменитых соображения, хотел бы дополнить их своим. Представим себе, что людской род ограничивается реальностью, воспринимаемой лишь слухом и обонянием. Далее представим, что зрение, осязание и вкус упразднены вместе с пространством, которое они очерчивали. И наконец – идя логическим путем, – представим себе самое обостренное восприятие с помощью двух оставшихся чувств. Человечество – каким призрачным оно после этой катастрофы ни покажется – продолжало бы ткать свою историю и дальше. Человечество забыло бы, что когда-то обладало пространством. Жизнь в этой не тяготящей слепоте и бестелесности осталась бы столь же пылкой и столь же скрупулезной, как наша. Я не хочу сказать, что это гипотетическое человечество (с его нисколько не меньшей, чем у нас, волей, нежностью и непредсказуемостью) добралось бы до пресловутой сути: я лишь утверждаю, что оно существовало бы без и вне какого бы то ни было пространства.
1928
Суеверная этика читателя
Бедность нашей словесности, ее неспособность увлечь читателя породили своеобразный стилистический предрассудок – рассеянное чтение при внимании к деталям. Те, кто страдает этим суеверием, понимают под стилем не силу или бессилие той или иной страницы, а очевидные приемы автора: его сравнения, звукопись, особенности работы с синтаксисом и пунктуацией. Читатели безразличны к авторской позиции как таковой, к эмоциям как таковым: они ищутмаячки (как выразился Мигель де Унамуно), которые дали бы им понять, имеет ли написанное право им понравиться. Они слышали, что эпитет не должен быть тривиальным, и думают, что страница плохо написана, если на ней нет оригинальных сочетаний существительных и прилагательных, даже если достигнута главная цель текста. Они слышали, что лаконичность – это добродетель, и считают лаконичным того, кто растягивает текст десятью короткими фразами, а не того, кто управляется с одной длинной. (Образцовые примеры такой шарлатанской краткости, этой сентенциозной пылкости можно отыскать в речах известного датского чиновника Полония из «Гамлета» или же у Полония из реального мира – по имени Бальтасар Грасиан.) Они слышали, что близость повторяющихся слогов неблагозвучна, и притворяются, что в прозе она приносит им страдание, а в поэзии – особого рода наслаждение, хотя полагаю, что и здесь они лукавят. Иными словами, они обращают внимание не на эффективность механизма, а на его конструкцию. Они подчиняют чувства этике, а точнее – непреложному этикету. Подобная точка зрения стала настолько распространенной, что читателей в собственном значении слова уже нет – все стали потенциальными критиками.