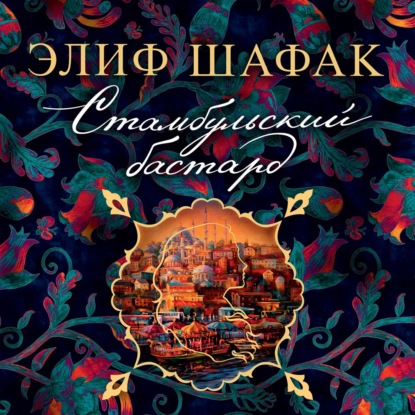Полная версия
История О
Келья оказалась совсем крошечной, но состояла из двух частей. Та, что примыкала к двери в коридор, считалась как бы передней; там же была и дверь в ванную комнату. Напротив двери имелось окно. К стене слева было придвинуто изголовье большой четырехугольной кровати, очень низкое, покрытое мехом. Никакой другой мебели, ни одного зеркала. Стены ярко-красного цвета, черный ковер. Андрэ обратила внимание О на то, что кровать была не кровать, а скорее поставленный на платформу громадный матрац, покрытый черной длинноворсистой тканью, имитирующей мех. Подушка плоская и твердая, покрывало двуслойное. Единственный предмет, украшавший голую стену, – блестящее металлическое кольцо, укрепленное на той же высоте над кроватью, что и подобное кольцо в столбе над полом библиотеки. От него спускалась к кровати металлическая цепь, звенья которой в беспорядке лежали сейчас на покрывале. Цепь заканчивалась крючком, похожим на те, какими крепятся портьеры.
– Мы должны помочь вам принять ванну, – сказала Жанна, – я сниму с вас платье.
Они раздели ее донага, спрятали платье в шкаф возле умывальника, где уже находились ее туфли и красная накидка, и лишь тогда позволили войти.
Особенностями ванной комнаты было лишь большое кресло «а ля тюрк» в углу да стены, сплошь покрытые зеркалами. Когда О пришлось присесть на корточки над фарфоровым цоколем, она увидела себя посередине десятков отражений, выставленной напоказ, подобно тому, что было в библиотеке. Андрэ и Жанна не покинули ее и здесь.
– Подождите, – сказала Жанна, – вот придет Пьер, и вы увидите…
– При чем тут Пьер?
– Когда он придет вас приковывать, он, может быть, заставит вас присесть при нем на корточки.
О почувствовала, что бледнеет.
– Но почему?
– Вы еще поблагодарите, – загадочно сказала Жанна. – Но вам повезло.
– Почему повезло?
– Это ваш любовник привез вас сюда?
– Да, – сказала О.
– Дальше с вами будут куда суровее.
– Я не понимаю…
– Поймете очень скоро. Я звоню Пьеру. Мы придем за вами завтра утром.
Андрэ улыбнулась, уходя, а Жанна задержалась на мгновение и ласково потрепала озадаченную О за сосок. О стояла у подножия кровати совершенно голая, если не считать ошейника и браслета, кожа которых, высыхая, стягивалась все туже. «Итак, милая дама», – услышала она голос вошедшего слуги. Он взял ее за руки, сцепил кольца обоих браслетов с кольцом ошейника. Теперь ее сложенные вместе руки были подняты к горлу, как бы в позе молящейся. Оставалось приковать ее к стене цепью, лежавшей на кровати. Слуга отцепил крючок на конце цепи, чтобы укоротить ее. О пришлось податься вперед, к изголовью кровати. Цепь звякнула о кольцо и натянулась так, что молодая женщина могла только или лежать поперек кровати, или стоять по любую сторону изголовья, не отходя от него. Слуга уложил О, накрыл ее покрывалом, но сначала на минуту задрал ее ноги, прижал их к груди и внимательно исследовал промежность. Больше он не прикоснулся к ней, не произнес ни одного слова, погасил лампу, висевшую между дверями в передней, и вышел.
Лежа на левом боку, в вынужденной неподвижности, одна среди мрака и безмолвия, О спрашивала себя, почему столько сладости примешивается в ней к страху и почему сам этот страх так сладок. Но одна вещь среди других была для нее непереносимо мучительна: связывание рук. Не потому, что руки могли бы ее защитить (да и хотела ли она защититься?), но они, оставаясь свободными, могли бы выразительно жестикулировать, могли отталкивать другие жадные руки, хватающие ее, чужую плоть, стремящуюся в нее проникнуть, она могла подставить их под удары бича. Если бы освободить руки! А так ее собственное тело оказалось для нее недоступным; как странно не иметь возможности прикоснуться к своим коленям, к впадине своего живота. Обжигающие ее жаром между ногами губы были для нее запретным плодом. Они и пылали так, потому что она знала, что они открыты для всякого, даже для слуги Пьера, стоит ему только пожелать. Она удивлялась тому еще, что так равнодушна к воспоминаниям о хлыстах, биче, плетках, а вот невозможность узнать, кто же из мужчин дважды проникал в нее сзади, и был ли это один и тот же, или их было двое, и не оказался ли Рене в их числе, мучает ее несказанно. Она перевернулась на живот и лежала так, вспоминая, как любил он эту бороздку между ягодицами, куда до этого вечера (если только это был он) не смог ни разу проникнуть. Хорошо, если б это был он! Она его спросит об этом! Нет, никогда. Она снова увидела его руку, как она забирает у нее пояс и трусики, как протягивает круглые подвязки для чулок. Таким явственным был этот образ, что она забыла о связанных руках, но звякнула цепь… А почему, если память о мучениях так легка для нее, одна мысль, одно слово, один взгляд на бич заставляют бешено колотиться ее сердце и зажмуривать от страха глаза. Если бы это был только страх. Внезапно ее охватил панический ужас: ее поднимут за цепь, поставят на кровати и будут сечь. Прижмут животом к стене и будут сечь. Будут сечь, будут сечь, будут сечь – слова эти кружились в ее голове. Пьер будет ее сечь, так сказала Жанна. Вам повезло, сказала она еще, – с вами будут суровее. Что имела Жанна в виду? Она не чувствовала больше ни ошейника, ни браслетов, ни цепи. Ее тело поплыло по течению… Она потом поймет… потом… потом…
Так она и заснула.
На исходе ночи, когда она становится еще непрогляднее и холоднее, перед самым рассветом Пьер появился снова. Он включил освещение в ванной комнате, и светлый прямоугольник, проникший через открытую дверь, лег на кровать и на маленькую, скорчившуюся фигурку О. Пьер молча откинул покрывало. О спала на левом боку, лицом к окну, поджав колени и выставив белеющий на черном фоне мехов зад. Пьер вытащил из-под ее головы подушку, вежливо произнес: «Не угодно ли вам встать?» Она приподнялась на коленях, насколько ей позволяла цепь, а он, взяв ее за локоть, помог ей выпрямиться и повернул лицом к стене. Прямоугольник света лежал на ее теле, но фигура Пьера была скрыта полумраком. Она не видела его движений, но догадалась, что он вынул цепь из карабина и соединил с другой петлей, еще более ограничив свободу передвижения О. Она не видела, что теперь у него на поясе не ременной бич, а легкий хлыст, подобный тому, какой она испытала дважды на себе возле столба. Рука Пьера легла ей на талию, матрац немного просел, потому что Пьер поставил на кровать правую ногу, чтобы поддержать О. И тут же О почувствовала, как жгучая боль опоясала ее поясницу. Она вскрикнула. Пьер хлестал ее изо всех сил, стараясь наносить каждый удар выше или ниже предыдущего, чтобы линии рисунка не пересекались. После четырех ударов он остановился, она все плакала, и слезы лились из ее глаз ручьем. «Попросил бы вас теперь повернуться», – сказал он. Ошеломленная О, наверное, не могла расслышать приказания, и тогда он схватил ее за плечи, все еще не выпуская хлыста из рук, так что его жало коснулось, на этот раз легко, ее поясницы. Когда О оказалась лицом к нему, слуга сделал шаг назад и с силой опустил хлыст на живот женщины. Все это заняло минут пять. Когда он вышел, погасив свет и закрыв дверь в ванную, стонущая от боли О, покачнувшись, сползла на цепи вниз по стене, во мрак. Онемевшая, застывшая, она прижалась к стенке кровати, и блестящая перкаль казалась ее истерзанной коже охлаждающим компрессом. А там, снаружи, занимался день. Огромное окно кельи выходило на восток, было вровень с землею и ничем не занавешено. Красная ткань, покрывавшая все стены, была собрана большими складками по краям окна. О наблюдала явление зари. Медленная, бледная заря осторожно тащила дымку по головкам астр, столпившихся под окном, и наконец вывела из тумана тополь. Желтые листья, кружась, хотя не было ни малейшего ветра, падали время от времени наземь. Заросли лиловых астр под окном тянулись до лужайки, а за нею начиналась аллея. Заря разгоралась все ярче и ярче, наступило утро, и О, все такая же неподвижная, смотрела, смотрела, смотрела… Садовник с тачкой показался в конце аллеи, было слышно, как визжат колеса по гравию. Если б он подошел ближе, окно было так велико, а комнатка так мала и ярко освещена, он мог бы увидеть прикованную нагую О, различить следы хлыста на ее теле. Рубцы вспухли, стали темно-красного цвета, куда более густого, чем красный цвет стен. Где спит сейчас ее любовник, он так всегда дорожил утренним сном. Знал ли он, на какие муки ее обрекает? А может быть, он сам и придумал их? О подумала об узниках, о тех, кого она видела на гравюрах в книжках по истории, их тоже приковывали, хлестали бичами; так много лет прошло с тех пор, даже веков, они все давно умерли. Она не хочет умирать, но, если этими мучениями она должна заплатить за то, чтоб ее продолжали любить, она хочет, чтоб он был доволен, зная, что она подчиняется ему и ждет, безмолвная, полная нежности, чтоб он пришел и увел ее к себе.
Ни у одной женщины не было ключей ни от дверей, ни от цепей, ни от ошейников, ни от браслетов, но все мужчины носили на кольцах три сорта ключей, которые открывали соответственно все двери, все замки, все ошейники. Были ключи и у слуг. Но по утрам ночные слуги спали, и замки открывал или кто-нибудь из господ, или дневной слуга. Человек, вошедший утром к О, был в кожаной куртке, кавалерийских бриджах и сапогах. Она не узнала его. Первым делом он снял цепь со стены, и О могла лечь на кровать. Перед тем как развязать запястье, он провел рукой между ее бедер, как это делал тот в маске и перчатках в маленьком красном салоне. Может, это и был он? Костистое изможденное лицо, взгляд прямой, как на портретах старых гугенотов, волосы тронуты сединой. О выдержала его взгляд какое-то время и вдруг похолодела, вспомнив, что запрещено смотреть в лицо господам, вообще нельзя обращать взгляд на все, что выше пояса. Она закрыла глаза. Послышался сухой смешок и голос: «Отметьте, чтобы ее наказали после обеда». Это говорилось для Андрэ и Жанны, вошедших вместе с ним и застывших сейчас по обе стороны кровати. После этого он вышел. Андрэ подняла упавшую на пол подушку, покрывало, сброшенное Пьером во время ночного визита. Жанна тем временем придвинула к изголовью кровати круглый столик, на котором были кофе, молоко, сахар, хлеб, масло и круассаны. «Ешьте скорее, – сказала Андрэ. – Уже девять часов. Потом вы можете спать до полудня и, когда услышите звонок, знайте, что вас зовут к завтраку. Вы примете ванну, причешетесь, а я приду вас накрасить и зашнуровать корсет».
– Служба ваша начнется после полудня, – сказала Жанна, – в библиотеке подать кофе, ликеры, поддерживать огонь.
– А как же вы? – спросила О.
– Мы? Нам приказано быть с вами только первые сутки, а затем вы останетесь одна и будете иметь дело только с мужчинами. Нам нельзя будет даже разговаривать с вами, и вам это тоже запрещено.
– Подождите, – сказала О, – подождите еще немного и скажите мне…
Но закончить она не успела, дверь открылась. Это был ее любовник, и он был не один. Это был ее любовник, и выглядел он как всегда в такие часы, перед первой утренней сигаретой: пижама в полоску, голубой стеганый халат с шелковыми лацканами, они выбирали его вместе в прошлом году. И те же изношенные туфли, давно пора покупать новые. Женщины тут же испарились – только легкий шелест юбок сопровождал их исчезновение. О с чашкой кофе в левой руке и круассаном в правой сидела на краю кровати почти по-турецки: одна нога свешивалась на пол. Она не сделала ни одного движения; но чашка в ее руке дрогнула, и круассан выпал. «Подними его», – сказал Рене, и это были первые произнесенные им слова. Она поставила на столик чашку, нагнулась за хлебцем, подняла и положила рядом с чашкой. Кусочек круассана остался лежать на ковре возле ее голой ступни. Рене нагнулся сам и подобрал крошки. Сел рядом, опрокинул О на кровать, поцеловал. Она спросила, любит ли он ее. «Конечно люблю», – ответил он и поднял ее, поставил перед собой, прижал губы к прохладным ее ладоням, потом к багровым рубцам на бедрах. Тот, другой человек, повернувшись к ним спиной, покуривал возле дверей. Раз он пришел вместе с Рене, подумала О, может быть, на него не запрещено смотреть. Но то, что последовало, все равно не избавило О от неприятностей. «Дай-ка на тебя посмотреть», – сказал любовник и, потянув ее к себе, поставил на пол. Обратившись вдруг к своему спутнику, он заметил, что тот оказался прав, и, поблагодарив, добавил, что по всей справедливости О должна сначала отдаться ему, если он так захочет. Незнакомец, на которого О так и не решилась поднять глаза, подошел, провел рукой по ее груди, по ягодицам и попросил раздвинуть ноги. «Слушайся», – сказал Рене. Он стоял, прижав ее спиной к себе, лаская одной рукой ее груди, а другой поддерживая за плечи. Незнакомый мужчина уселся на край кровати, положил руки на низ живота О и, разыскав в густом руне нижние губы, медленно и широко раздвинул их. Рене обхватил ее обеими руками и подтолкнул вперед, поближе, он понял, чего хотят от его любовницы, и постарался, чтобы мужчине было удобнее воспользоваться добычей. Она всегда отбивалась от этой ласки, ей становилось нестерпимо стыдно, и она спешила поскорее отделаться от нее, так спешила, что почти ничего не успевала и почувствовать; только ощущение совершаемого святотатства: возлюбленный стоит перед нею на коленях, тогда как это она должна преклонять колени перед ним. Но сейчас стало ясно, что ей не избежать этого, и она почувствовала себя пропащей. И потому она застонала, когда чужие губы прижались к выпуклости лобка, и спустились вниз, и обожгли внезапным огнем ее потаенный венчик, и исчезли, уступив место горячему кончику языка, воспламенившему ее еще больше. И она застонала сильнее, когда губы вновь вернулись в нее; она чувствовала, как твердеет и выпрямляется крохотный бутон, прячущийся в складках ее плоти, как всасывают его в себя, как покусывают, и это был такой долгий и сладкий укус, что она задохнулась и ноги изменили ей. Очнулась она распростертой на спине, рот Рене прижимался к ее рту, а руки его все глубже вдавливали ее плечи в кровать. А в это время другой, взяв под коленки ее ноги, широко развел их и поднял вверх. Заведенных за спину рук О (толкая ее к незнакомцу, Рене успел сцепить сзади браслеты) коснулся кусок чужой плоти, он словно проглаживал расщелину между ягодицами, вырастал, вздымаясь, готовясь погрузиться в ее глубины. И когда он нанес первый удар, она закричала, как при первом ожоге бича, и кричала еще и еще при каждом новом ударе, и ее любовник искусал ей все губы. И вдруг мужчина резко вырвался из нее и, отброшенный на землю, словно ударом молнии, закричал тоже. Рене расцепил руки О, поднял ее, уложил под покрывало, подождал, когда поднимется мужчина, и направился вместе с ним к дверям. И теперь все стало ясно. О увидела себя опустошенной, отверженной, проклятой. Она стонала под губами чужого мужчины так, как никогда не стонала от ласк своего любовника, никогда он не мог вырвать у нее такие крики, какие вырывались у нее под ударами незнакомца. Она осквернена, и прощения ей нет. Он будет прав, если бросит ее. Но нет, дверь снова открывается, он вернулся, он остается с нею. Он залезает к ней под покрывало, гладит по влажному горячему животу, прижимает к себе и говорит: «Я люблю тебя. Когда я отдам тебя еще и слугам, я приду к тебе ночью и засеку тебя в кровь».
Солнце все ярче и ярче освещает комнату, но они спят, и только полуденный звонок их пробуждает.
О не знала, что делать. Ее любовник был здесь, такой же близкий, такой же нежный, как в той комнате с низким потолком, на огромной, красного дерева английской кровати без полога. Он спал с ней в этой кровати почти каждую ночь с тех пор, как они поселились вместе. Обычно он засыпал на левом боку и, просыпаясь среди ночи, сразу же тянулся рукой к ее ногам. Потому-то она и не надевала ночной рубашки, а если была в пижаме, то без панталон.
И сейчас он поступал так же. Она брала его за руку и целовала ее, не решаясь ни о чем спросить. А он говорил. Скользнув двумя пальцами под ошейник и поглаживая ее кожу, он говорил, что хочет, чтобы отныне она была общим достоянием и его, и тех, кого он выбрал; да и совсем незнакомых ему, но принадлежащих к обществу замка.
Но только он, он и никто другой – единственный, от кого она зависит, кто бы ни отдавал ей приказы, при нем или в его отсутствие. Потому что он участвует в этом неизбежно, вне зависимости от того, кто предъявляет ей требования и выносит приговор. Это он сам обладает ею и наслаждается ею посредством тех, в чьи руки она отдана. Он участвует в этом самим фактом, что именно он отдал ее в эти руки. Так боги овладевали сотворенными ими смертными под личиной зверя или птицы. Он неразделим с нею. Оттого что он отдает ее кому-то, он еще теснее спаивается с ней. Для него да и для нее это должно быть доказательством, что она принадлежит ему: ведь нельзя отдать то, чем не владеешь. Он отдает ее, чтобы тотчас же получить обратно, и она только возвышается в его глазах после этого; так обыденная вещь, участвуя в священном ритуале, освящается, становится приобщенной к чему-то высшему. Он давно мечтал проституировать ее и так рад теперь, что наслаждение от этого превзошло все его ожидания. Это привязало его к ней еще сильнее и тем сильнее, чем более унижена и истерзана она оказалась. И если она его любит, она должна любить все, что исходит от него. О слушала и трепетала от счастья, оттого, что она его любит и что так легко соглашаться с ним. Он, несомненно, почувствовал ее состояние, потому что сказал: «Оттого что ты легко соглашаешься, я хочу от тебя того, с чем тебе невозможно будет согласиться. Даже если ты примешь это заранее, даже если скажешь сейчас да и решишь, что способна на это, ты не сможешь не возмутиться. И надо добиться от тебя вопреки твоей воле подчинения не для того, чтобы я или другие, кто будет находиться там, получили не сравнимое ни с чем наслаждение, а для того, чтобы ты прониклась сознанием, что все это совершено тобой». О хотела ответить, что она его раба, что будет носить с радостью любые цепи, но он прервал ее:
– Тебе сказали вчера, что в этом замке ты не должна ни смотреть мужчине в лицо, ни разговаривать с ним. И со мной ты должна молчать и подчиняться. Я тебя люблю. Вставай. Отныне ты будешь открывать рот только для того, чтобы кричать или дарить ласки.
Рене оставался в постели, пока О принимала ванну, причесывалась. Она вздрогнула, когда вода коснулась ее израненных ягодиц, и вытираться ей пришлось осторожно губкой, нельзя было растереться полотенцем. Она накрасила рот, оставила нетронутыми глаза, напудрилась и по-прежнему обнаженная, но со смиренно опущенными глазами вернулась в келью. Жанна стояла возле кровати, глаза ее были также опущены вниз, и она также была бессловесна. Рене лежа разглядывал ее, потом приказал одеть О. Жанна взяла зеленый атласный корсет, белую юбку, платье, зеленые туфли и, застегнув корсет на О спереди, принялась затягивать шнуровку сзади. Корсет был на китовом усе, длинный и жесткий, как во времена осиных талий, с подпорками для грудей. Чем туже затягивали корсет, тем выше поднималась грудь, выставляя напоказ соски. Одновременно перетягивалась все больше талия, выпячивая немного живот и сильно оттопыривая ягодицы. Как ни странно, все сооружение было довольно удобным и в известной степени позволяло чувствовать тело свободным. Широкая юбка и особенно корсет с трапециевидным вырезом во всю ширину груди служили, казалось, не для прикрытия женской наготы, а способом ее вызывающего показа. Когда Жанна завязала шнуровку корсета двойным узлом, О взяла цельнокроеное платье и корсаж, более или менее, в зависимости от шнуровки, подчеркивающий линии бюста. Жанна зашнуровала ее очень туго, и О показалась себе в зеркале ванной комнаты, глядевшем на нее через открытую дверь, тоненькой и потерянной среди волн зеленого атласа. Две женщины стояли друг против друга. Жанна потянулась расправить складки на рукаве зеленого платья, и груди ее ожили в кружевах, окаймлявших корсаж, кончики грудей были длинные и окружены коричневым ореолом. Рене тут же оказался рядом с женщинами. «Смотри», – сказал он О. «Подними платье», – сказал он Жанне. Желтый шелк платья и батист нижней юбки поплыли вверх, открывая золотистую кожу живота, гладкость бедер и колен, маленький черный треугольник. Одной рукой Рене медленно перебирал завитки волос, другая легла на грудь Жанны.
«Чтобы ты увидела», – сказал он О. И О увидела. Она увидела его лицо, ироничное, но внимательное, глаза, настороженно следившие за полуоткрытым ртом Жанны, за охваченной кожаным кольцом запрокинутой шеей. Разве то наслаждение, что он получал от нее, он не может получать от Жанны, от любой другой девушки? Он снова заговорил. «Ты еще об этом не думала?» – сказал он. Нет, она об этом не думала. Сразу ослабев, она прижалась спиной к стене, бессильно опустив руки. Ему нет нужды напоминать ей о запрете говорить. Что может сказать она? Может быть, ее отчаяние передалось ему, тронуло его, задело. Оставив Жанну, он привлек к себе О, обнял ее; она его любовь, его жизнь, говорил он, повторял, что любит ее. Рука, ласкавшая ее грудь и шею, еще пахла Жанной… А потом?.. Отчаяние, охватившее ее, отхлынуло: он любит ее! Да, он ее любит! Он волен наслаждаться Жанной, другими, но любит он ее!
– Я тебя люблю, – прошептала она ему на ухо. – Я тебя люблю, – так тихо, что он едва мог ее расслышать. – Я тебя люблю. – И, только увидев ее проясневшие, сияющие счастьем глаза, он разжал объятия и вышел из кельи.
Взяв О за руку, Жанна вывела ее в коридор. Снова шлепанье туфель по плитам пола и снова слуга, сидящий на скамеечке меж двух дверей. На нем та же одежда, что и на Пьере, но это не Пьер. Этот высок, худ и черноволос. Он двинулся вперед перед ними и ввел их в некую прихожую, где у кованой железной двери, прикрытой длинной зеленой занавеской, их ожидали двое других слуг. У их ног расположились две белые с подпалинами собаки. «Это выход», – прошептала Жанна чуть слышно, но шедший впереди услышал и резко обернулся. О увидела, как внезапно побледнела Жанна и, отпустив придерживаемый рукой подол платья, упала коленями на черные плиты – пол в прихожей был выстлан черным мрамором. Двое возле двери засмеялись. Один из них подошел к О, попросил следовать за собой и, распахнув дверь в противоположной стене, отступил в сторону. Она услышала за спиной смех, шаги, и дверь закрылась. Она так и не узнала никогда, была ли наказана Жанна за разговоры и как ее наказали. Бросилась ли она на колени перед слугой, подчиняясь какому-то правилу или в надежде смягчить его, что ей и удалось? Однако она заметила во время своего первого, двухнедельного пребывания в замке, что, хотя разговоры были запрещены абсолютно, редко обходилось без нарушения этого запрета во время их постоянных хождений взад и вперед, за едой, когда присутствовали только слуги. Одежда как бы возвращала женщинам уверенность, отнятую у них ночной обнаженностью, ночными цепями и присутствием господ. И еще заметила она, что если малейший жест, который мог походить на попытку как-то сблизиться с кем-нибудь из господ, был совершенно немыслим, то со слугами дело обстояло несколько иначе. Эти-то никогда не приказывали, но их очень вежливые просьбы были непререкаемы не менее приказов. Им, очевидно, было предписано, окажись они единственными свидетелями нарушений правил, наказывать провинившуюся немедленно, тут же, на месте преступления. О случилось наблюдать три подобных происшествия: одно в коридоре красного крыла, два других – в столовой, где девушек, уличенных в разговорах, могли бросить на пол и выпороть. Выходило, что вопреки тому, что ей было сказано при поступлении на службу в замок, порка могла произойти и средь бела дня: слуги словно шли не в счет и им предоставлялось действовать по своему усмотрению. Однажды в полдень соседка О по столу, пышная белогрудая блондинка Мадлен улыбнулась О и сказала несколько слов, сказала так быстро, что О ничего не разобрала. Тут же один из таких, в красных рубашках, подскочил к Мадлен уже с бичом в руке и сорвал ее с табурета. Но прежде чем бич коснулся ее, Мадлен была уже на коленях и руки ее ярко белели на черном шелке штанов, под которыми пока еще все отдыхало. Но она выпустила узника на свободу и потянулась к нему раскрытыми губами. В этот раз Мадлен избежала наказания. А так как других надзирателей в тот день в столовой не было и слуга в красной рубашке блаженно зажмурился под ласками Мадлен, девушки смогли наболтаться вволю. Значит, слуг можно было подкупить. Но ради чего? Если и существовало для О трудновыполнимое правило, которое она нарушала нередко, так это запрет смотреть в лицо мужчинам, запрет, относившийся и к слугам. Но именно человеческое лицо возбуждало в О особенный интерес, и потому здесь она находилась под постоянной угрозой. Ее и в самом деле то и дело подвергали наказанию, но, по правде говоря, кары обрушивались на нее не всякий раз, когда ее уличали в пренебрежении правилами (ибо хозяева замка придерживались их не так уж строго, опасаясь, очевидно, чрезмерной пунктуальностью лишить себя приятных возможностей, ведь взгляды, вскинутые вверх, все равно в конце концов обращались книзу), но, несомненно, всегда, когда появлялось желание унизить ее. Но как бы жестоко с ней ни обращались в таких случаях, у нее не хватало смелости или малодушия упасть перед ними на колени; она подчинялась порой, но никогда не молила о пощаде. Соблюдение же молчания, если это не касалось ее общения с любовником, давалось ей легко, и она ни разу не нарушила запрета. Когда другие девушки, воспользовавшись рассеянностью надсмотрщика, заговаривали с нею, она отвечала знаками. Обычно это происходило за едой, в той комнате, куда привел ее однажды тот высокий слуга, что обернулся к Жанне после единственного ее слова. В этой выложенной черным мрамором комнате черными были и стены, и длинный, покрытый толстым стеклом стол, и женщины сидели на круглых табуретах, обшитых черной же кожей. Садясь на них, надо было поднимать платье и нижнюю юбку, и первое же соприкосновение с гладкой холодной поверхностью вернуло О в тот автомобиль, где она сняла с себя пояс и трусики и передала их любовнику. И наоборот: когда, покинув замок, в своем обычном костюме или повседневном платье О должна будет всякий раз поднимать юбку и комбинации, чтобы опуститься голыми ягодицами на стул в кафе или на сиденье автомобиля рядом с любовником или с кем-то еще, к ней всякий раз будут возвращаться замок, торчащие из шелкового корсета груди, руки и губы, которым позволено все, и грозное молчание. Однако ничто так не помогало ей, как молчание. Да еще цепи. Цепи и молчание, которые должны были бы скрутить О в глубинах ее собственного существа, придушить, подавить ее, напротив, освобождали ее от самое себя. Что бы произошло с ней, если б вернули ее устам речь, а рукам свободу, если бы ей предоставили право выбирать в те минуты, когда ею пользовались другие на глазах у любовника? Она бы смогла, это верно, говорить во время истязаний, но зачем слова там, где слышатся лишь стоны и крики? Вдобавок ей еще затыкали бы рот кляпом. Под взглядами, под руками, под гениталиями, осквернявшими ее, под ударами бича, полосующего ее кожу, она уходила в исступленное забвение самое себя, отдававшее ее любви и, может быть, приближавшее к смерти. Она могла быть кем угодно, быть любой другой девушкой, доступной и взятой силой, как брали и ее самое, как их берут, она видела, она присутствовала при этом, хотя и не должна была помогать насильникам. Вот так, на второй день ее пребывания в замке, когда не истекли еще первые сутки, она была после завтрака приведена чернявым слугой в библиотеку, чтобы прислуживать за кофейным столом и поддерживать огонь в камине. С нею были Жанна и другая девушка по имени Моника. Слуга, приведший их, остался и занял место возле памятного О столба. Библиотека была еще пуста. Большая застекленная дверь выходила на запад. Солнце осени медленно плыло по огромному, чуть тронутому облаками мирному небу; солнечные лучи ложились на широкий комод, на большой букет пахнущих землей и опалыми листьями хризантем. «Пьер ставил вам знаки вчера вечером?» – спросил слуга. О ответила кивком. «Надо бы их показать, – сказал слуга. – Соблаговолите поднять платье». Он ждал, пока, закручивая платье, как это проделывала накануне Жанна, О обнажится до пояса, и попросил разжечь огонь. В узорчатой рамке зеленого шелка и белого батиста показались ягодицы О, ее бедра, ее точеные ноги. И пять почерневших рубцов. Дрова в камине уже были подготовлены. О поднесла спичку к пучку соломы, положенному под тоненькие ветки. Яблоневые ветви вспыхнули сразу же, потом занялись дубовые поленья. Отблески огня были почти невидимы в ясном свете дня, но запах горящих поленьев поплыл по комнате. Вошел еще один слуга, убрал с консоли лампу, поставил на ее место поднос с чашечками для кофе и удалился. О подошла к консоли, Жанна и Моника застыли по обе стороны камина. В библиотеку вошли двое мужчин, и в ту же минуту первый слуга отправился следом за своим товарищем. Одного из вошедших О как будто узнала по голосу: это он предлагал как-нибудь облегчить доступ к О сзади. Разливая кофе по черным с золотом чашечкам, О украдкой рассматривала его. Ее насильник оказался худощавым светловолосым малым, похожим на англичанина. Он заговорил снова: да, это, конечно, он брал ее накануне сзади. Второй был тоже блондин, но приземист и широк в плечах. Сидя в глубоких кожаных креслах ногами к огню, они спокойно курили, листали газеты и не обращали ни малейшего внимания на женщин, словно их здесь и не было. Слышался шелест страниц и потрескивание поленьев в камине. Временами О подбрасывала дров в огонь. Она сидела на брошенной на пол подушке рядом с большой корзиной дров, Моника и Жанна – на полу, лицом к ней. Юбки их, расстеленные по полу, смешались в разноцветный узор, где выделялся густо-красный цвет Моники. Так прошел час. Вдруг худощавый блондин подозвал Жанну, а следом за ней и Монику. Он сказал им принести пуф (тот самый, на который ничком была брошена накануне О). Не ожидая последующих приказаний, Моника опустилась на колени, прижалась грудью к черному меху пуфа и обхватила его обеими руками. И когда Жанна по приказу молодого «англичанина» задрала красную юбку Моники, та даже не шевельнулась. Жанне еще пришлось, повинуясь новому распоряжению, высказанному в точных и самых непристойных выражениях, раздеть мужчину и взять в руки его одушевленный меч, которым так жестоко, по крайней мере единожды, была пронзена О. Он, выросший и напрягшийся, торчал из крепко сжатой ладони, и те же руки, маленькие ручки Жанны, раздвинули ляжки Моники. О видела, как медленно, маленькими ударами погружался в расселину между ними «англичанин», и слушала стоны Моники. Другой мужчина, молча наблюдавший за этой сценой, подал О знак приблизиться и, все не отрывая взгляда от слившейся пары, опрокинул ее на подлокотник кресла. Поднятая юбка обнажила во всю длину ягодицы О, но в распоряжении мужчины оказался и низ ее живота, куда он немедленно водрузил вторую руку. Так и застал их вошедший минутой позже Рене. «Не беспокойтесь, прошу вас», – проговорил он, опускаясь на подушку, только что покинутую О. Моника уже давно поднялась, Жанна сидела возле камина, сменив О.