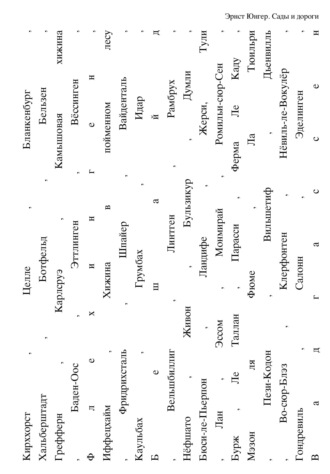
Полная версия
Сады и дороги
Этот отрывок из письма находится среди прочих замечаний о «Сердце искателя приключений»[31], которое, как я вижу, он читал в первой редакции. Он касается сравнительной оценки Стендаля и Гёльдерлина и ясно показывает, что сама затея рискованная и чревата неверной трактовкой. Правда, пока в нас не умерла воля, мы склонны сталкивать знаменитостей между собой; в этом суждении, кроме того, чувствуется отголосок настроения, которое было следствием проигранной войны. Поэтому я и не включил этот пассаж во вторую редакцию, которая вышла из печати около года назад.
Но в ту пору он казался мне настоящим украшением книги, удачным фехтовальным уколом. Всегда находятся умы, которые укрепляют нас в наших слабостях, лишь бы только в споре мы были на их стороне; и встречаются они, к сожалению, намного чаще, нежели те, кому удается высказать весомое суждение по существу дела.
Кирххорст, 25 апреля 1939 годаПолучил по почте свой военный билет, отправленный командованием округа Целле. Так я узнаю, что государство внесло меня в реестр в чине лейтенанта для поручений. Политика в эти недели напоминает время непосредственно перед мировой войной. Чем-то новым является повышенная сентиментальность масс, что находится в кричащем противоречии с усилением технических средств. Допускаю, что и то и другое имеет под собой одно и то же основание и что многие пребывают во власти иллюзии. Страх во все времена внушало только одно существо – человек, для которого оружие – дополнительный орган и образ мыслей.
Еще пришла открытка от Фридриха Георга[32], в конце недели он собирается приехать из Лайснига[33].
Утром, когда впервые за много дней погода наконец прояснилась, размышлял в саду то о работе над «Мраморными утесами», то о новой напасти, землеройных крысах. С садом дело обстоит, как и вообще с жизнью, в которой на всякую выгоду отмеряется и свое лихо. Если почва прекрасно взрыхлена, то и высыхает она быстрее; тот, кто снимает в тропиках десятикратный урожай, получает новую мороку с его реализацией. Мы можем рассчитывать лишь на жалкий выигрыш и должны быть этим довольны.
Кирххорст, 26 апреля 1939 годаКопался в саду, чтобы не ударить в грязь лицом пред братом. Снова посеял горох с красивым названием «Английская сабля» и обезопасил его от воробьев, натянув поверх него старые гардины. Еще раз поохотился у болота на гидрофилий, поскольку намерен некоторые их разновидности закрепить на целлон[34] для изучения нижней поверхности. Участки, на которых пахотный слой почвы на пустоши сглажен и срезан лопатой. На толстом торфе, словно на черном гумне, – колокольчатый вереск и росянка, цветущие травы да молодая березовая поросль. По краям, с еще розовыми нераспустившимися цветами, высокое верескообразное травянистое растение – занесенная к нам, очевидно, из Канады кальмия. На оживленной поверхности – вышедшие на охоту жуки-скакуны, то переливающиеся шелковистой зеленью, то слегка матовые, мшистые. Один экземпляр, пойманный больше ради забавы, оказался разновидностью, носящей название Connata, – у нее пара светлых пятен соединяется посередине на щитке спины в виде бантика.
«Мраморные утесы». Пока в голову не пришло более подходящего имени для фигуры брата, который сначала выступал у меня под именем Профундус[35]. Но трехсложное слово звучит в предложении слишком уж тяжело. А посему я до поры до времени использовал довольно бесцветное имя Феликс. Быть может, я решусь-таки на Otto либо Otho[36], что позволит чисто вокалически вписаться в любое выражение.
Кирххорст, 28 апреля 1939 годаБеспокойная ночь. Сначала мне привиделся Кньеболо[37], болезненный, меланхоличный и замкнутый. Он протянул мне горсть конфет в чудесных золоченых обертках; их ему якобы подарили на именины целую уйму. Затем я увидел картину жизненного пути, который представлял собой как бы расположенный уступами сад. Там были лабиринты, зеркальные отражения и множество преград, позволявших продвигаться только в одном направлении; а еще врата, ведущие на волю.
Потом я наблюдал новое флуоресцентное свечение – из золота и лазури. Я встряхивал в плоской вазе кристаллы и шарики, которые озарялись то чистым золотом, то сияющей голубизной, и во время этого покачивания из сосуда доносились легкие раскаты грома.
В кругу прославленных мастеров я представился буквоедом.
В двенадцать часов дня – в комнате Перпетуи у радиоприемника. Перпетуя, Луиза и толстая Ханна сидели на стульях, тогда как я, почти как в Мавритании, возлежал на диване. Затем сажал картофель, причем в этих краях для прокладки борозд используют мотыгу с широкими лопастями и размашистые грабли. Инструмент этот называется Tog (произносится как Toch), что, вероятно, связано с волочением (Ziehen). Пересадил штокрозы. Перекинулся словечком со стекольщиком, при взгляде на которого я – впрочем, впервые в жизни – подумал: «Вот так и ты когда-нибудь будешь выглядеть», ибо приметы старости сочетались в его облике с симпатичными чертами какого-то детского простодушия. Маленький Александр[38] каждого величает «дядей»: дети пребывают в уверенности, что все люди братья.
Мощную балку амбарных ворот здесь называют Dössel.
Кирххорст, 29 апреля 1939 годаПеред тем как заснуть, я долго размышлял о голубом цвете, увиденном вчера на пиале. Мне хотелось подобрать ему название, но лишь столкнувшись с невозможностью отыскать хотя бы приблизительное сравнение, я осознал характер того, что тогда лицезрел. Я оказался по ту сторону цветового мира.
Мне снилось, что я прислушивался к разговору крестьян о ландшафте. Один из них произнес: «В лето болото-то ужасть как ухает» – то есть ужасно, под чем, как мне тотчас же стало ясно, он подразумевал, что острым лемехом плуга слой почвы взрезается до самого основания.
В четыре часа я проснулся и до половины шестого слушал удары церковных часов. Когда мы вот так мним себя бодрствующими, то чаще это всё-таки бывает дрема, в которую мы погружены, – так мы состригаем сон.
Из Парижа, от Herkules, пришел последний номер «Crapouillot», «Les Bas-Fonds de Paris»[39] с картинками и описаниями лупанариев, а также с кратким словарем арго. В нем я обнаружил слово «chialer» (эквивалент «плакать»), что, собственно говоря, должно означать: «chier des yeux»[40]. Я выписал себе это словечко в качестве примера того, до какой степени язык может заполняться нечистотами. Слово зачастую насчитывает столько синонимов, сколько оттенков имеется в самом обществе.
Вечером встретил на автобусной остановке Фридриха Георга.
Кирххорст, 30 апреля 1939 годаКафедральные соборы как окаменелости, которые вкраплены в наши города, словно в поздние осадочные отложения. И всё же мы очень далеки от того, чтобы от их размеров перейти к выводу о той жизненной мощи, которая была в них заложена и которая их создавала. Породившая и наполнявшая их когда-то пестрая жизнь чужда нам сегодня больше, чем аммониты мелового периода; и гораздо проще восстановить облик древнего ящера по костям, найденным в сланцевом руднике. Можно даже сказать, что нынешним людям эти творения говорят столько же, сколько глухому – формы скрипок или тромбонов.
После полудня в душную погоду с братом на болоте. Разговор о различии нигилизма и анархии. Фридрих Георг усматривает различие, кроме всего прочего, в том, что нигилизм может принимать формы порядка. Вероятно, не будет ошибкой сказать, что внешние принципы организации возрастают в той мере, в какой утрачивается внутренняя гармония. Так, число врачей увеличивается в той пропорции, в какой пропадает целебная сила.
Потом со стороны болота пришла гроза с градом.
Кирххорст, 1 мая 1939 годаГрад нанес серьезный урон растениям; так, с нашего миндального деревца он посбивал весь цвет. Теперь он лежит на земле возле ствола, словно розовая сорочка.
Первый месяц на новом месте. Особенно приятно отсутствие малейшего намека на комфорт, настолько он опротивел мне в маленьких новостроечных виллах. Дом выстроен в стиле нижнесаксонского хутора; к жилому помещению вплотную притулился большой амбар с хлевами, которые я со временем намерен заселить животными.
Кирххорст, 3 мая 1939 годаПоездка в Бургдорф, на пару с Фридрихом Георгом. Вдоль дороги – сияюще-желтые цветы одуванчика – львиного зуба. Название этого растения выбрано очень удачно; оно, так же как лев, солярной природы. В деревнях – крепкие дубы, похожие на последние деревья Донара[41]. Часто будто пелена спадает с глаз; крестьянские дворы явственно встают передо мной в своем древнем языческом блеске. Я вглядываюсь в самую глубь, в нетронутое нутро древней родины, и верю, что так по смерти мы видим распахнутыми настежь двери отчего дома, и гумно залито торжественным светом.
В Бургдорфе на велосипеде Фридриха Георга сломалась седельная пружина, и мы завернули к молодому кузнецу. Небольшая мастерская, пропахшая железом, была загромождена бесполезными вещами, главным образом развинченными колесами, которые пылились и ржавели по углам. Другие висели на стенах, словно жертвенные дары в храме Вулкана. Когда совершенно безучастно созерцаешь такого рода места, человеческая работа зачастую приобретает странный смысл.
Кирххорст, 4 мая 1939 годаПоскольку мой кабинет располагается в самой глубине дома, то с помощью Перпетуи и Луизы я оборудовал себе на чердаке отшельническую келью. У меня издавна было пристрастие к пыльным чердакам; они напоминают царство забвения.
Мне кажется, что в необитаемых помещениях накапливается некая материя, некий духовный гумус, из которого сила воображения извлекает богатую пищу. Когда в Юберлингене мне случалось спать в погребе, ко мне в изобилии стекались сны. И совсем уж нестерпимым оказался натиск видений, когда во время войны, в Души, я занимал пустующий блиндаж, расположенный среди садов. Я покинул его после первой же ночи. Сюда же можно отнести, пожалуй, и истории о гостях, которые ночуют в запыленных каморках старых замков и видят там призраков. В помещениях, где мы долго живем, эта неведомая сила истощается; наши комнаты чем-то похожи на культивированную почву. Становится ясно, почему первой ночи и снам в новом доме придают в народе мантическое значение.
Кирххорст, 6 мая 1939 года«О боли»[42]. Если я буду вносить изменения в эту работы, можно было бы дополнить ее разделом о горечи. Горечи старения, в особенности у женщин, горечи разочарований, о совершенных несправедливостях и непоправимых промахах, наконец, о горечи смерти, которой не избежать никому. Горечь возникает лишь во второй половине жизни, когда вместе с морщинами на лице с роковой неотвратимостью проступают и линии судьбы. Еще она свидетельствует о чем-то вроде потерянной невинности.
Кирххорст, 9 мая 1939 годаПогода всё еще прохладная и влажная. Сажал капусту и сельдерей.
Влажность как стихия жизни. Напор соков в предвкушении наслаждения: слюнки, которые текут у нас изо рта при виде лакомого куска, кипение крови и секреты желез во время любовной игры. Мы буквально налиты соком. Пот и слезы означают, что жизнедеятельность в самых глубоких недрах здоровья еще не угасла. Скверно дела обстоят у того, кто уже больше не может ни потеть, ни плакать. Затем – гумидное[43] в духовном, к примеру, сочное, болотистое, лесная свежесть в стихотворении. Прежде всего – набухающее половодье слов и картин, где плавают твердые корпускулы.
Влажность у Рубенса, особенно в тех местах, где плоть прорисовывается розовым цветом. Там бесподобно всё, что изображает радость жизни. У романских народов стихия влажного более скрыта, часто словно бы заключена в раковину. С тем же связан и голод по северной крови или, скорее, жажда ее.
Иного рода свойства сухого. Сладость, аромат. Обращение Ницше к сухому, к пустыне, к златовяленым финикам, от Вагнера к Бизе. Интенсивная жизнь, возникающая благодаря настою. Оазисы. Цистерны. Гаремы. Интарсия[44].
Кирххорст, 10 мая 1939 годаСтоловую свеклу, редис, кустовую фасоль высеял на грядки, а кормовую капусту и брюкву – на опытном участке. Из капусты, помимо обыкновенной, посадил темно-красный сорт, почти с черным отливом – из пристрастия к оптике. Еще у меня будет виться по жердям турецкая фасоль, с красными цветами. Куры тоже должны быть одной, ласкающей глаз породы. Только так можно рассчитывать и на экономический успех. Нужно несколько раз в день ощущать радость, обращаясь к растениям и животным, чтобы налюбоваться их видом, а вечером, перед тем как заснуть, нужно увидеть их мысленно.
Стоит только мужчине добиться одной женщины, как он тотчас же становится смелее и в отношении остальных; успех одновременно распространяется на весь пол.
Кирххорст, 14 мая 1939 годаСегодня, во второй половине воскресного дня, меня посетил один читатель двадцати трех лет от роду, который служит ефрейтором в Брауншвейге. Мы вместе выпили кофе под сенью буков, а затем отправились на болото. Меня поражает, что всякий, с кем я знакомлюсь таким образом, испытывает страдания, а помочь ему ничем не поможешь. Время имеет сходство с опасной тесниной; людям приходится протискиваться сквозь нее. У меня, прежде всего чисто физиогномически, складывается впечатление, что они почти полностью живут в сознании и чересчур много заняты мыслями о положении, в котором находятся. У них проявляются симптомы страха перед экзаменом; к тому же они из породы постоянно бодрствующих людей, и странно, что воля к счастью и к неторным путям так слабо развита в них. Здесь тебя никогда не покидает чувство, будто ты разговариваешь с бегунами на длинную дистанцию или, что еще безотраднее, с бегуньями на то же безмерное расстояние. Где же мировой дух держит сегодня в резерве своих сновидцев и спящих?
Кирххорст, 15 мая 1939 годаТемная лилия, что, подобно маленькой пальме, всходит на краю клумбы с хризантемами. Словно танцовщица – одежды в рискованном повороте, она энергично отбрасывает от себя мутовки своих узких листочков. Я гляжу на это растение и наслаждаюсь блаженством, которое оно источает своим медленным ростом и близостью к земле. В нем, будто в статуе, сосредоточена чудесная сила. Ему чужда спешка; оно знает, что достигнет созревания в срок.
Кирххорст, 17 мая 1939 годаС тех пор как я поселился в мансарде, мне редко случалось увидеть Фридриха Георга раньше полудня. Сегодня после обеда мы говорили о «style image», порицаемом Мармонтелем[45]. Из сказанного по этому поводу Фридрихом Георгом мне больше всего понравилась мысль, что в языке можно различать не только образное письмо и язык понятий – в качестве третьего можно назвать вдохновенный стиль.
Потом о Брейгеле и «Блудном сыне» Босха. Эту картину мы несколько лет тому назад обстоятельно рассмотрели во время аукционных торгов, и уже тогда она произвела на нас обоих неизгладимое впечатление. Седовласый сын, у которого давным-давно ничего не осталось, кроме нищеты, дыр на одежде да бесприютности. Видно, что домой ему уже никогда не добраться, и в этом художник превосходит суровость библейского текста. Притон на заднем плане – мир, предстающий в виде балагана фиглярства и надувательства, у стены притона мочится пьяница, а шлюха в окне выставила напоказ свои груди. Давно забыт тот, кто оставил здесь свое наследство, честь и здоровье. Недуг поразил самую сердцевину. Ужасающее воздействие полотна объясняется тем, что вся неудавшаяся жизнь здесь как бы сжата до одного мгновения. По силе такого схватывания с живописью не сравнится ни одно другое искусство.
После захода солнца сажал помидоры. Растения принимаются сразу, не чахнут, если рассаду опускать в жижу из воды, тучного торфа и земли. Этот рецепт порекомендовал мне маклер Бельц из Юберлингена. В нашей школе жизни много учителей, и некоторым из них мы обязаны одним-единственным навыком.
Кирххорст, 19 мая 1939 годаСвояк заехал за нами на машине, и мы провели весь день в Липпском лесу и у озера Штайнхудер-Меер. В Ребурге[46] мы долго бродили вокруг отчего дома и смотрели на окно мансардной команты, в которой Фридрих Георг и я ютились так много лет, пока не разразилась война. Видели мы и окно эркера в зале, где мы, когда родители были в отъезде, вчетвером справляли наши первые галантные праздники. Как много воды с той поры утекло!
Проходя мимо деревьев, отчетливо сохранившихся в памяти после стольких лет, я поразился, насколько мало выросли липы и шаровые акации. Стволы плодовых деревьев и буков стали гораздо толще, но всех превзошла плакучая ива. В 1912 году мы посадили у водоема маленький прутик, который теперь разросся до исполинских размеров. Такие различия, конечно, во многом зависят от добротности почвы. Однако яснее всего разница между прошлым и настоящим проявилась в сократившихся расстояниях, которые сохранились в моей памяти как отмеренные пешком отрезки пути. Теперь мы пролетали между этими пунктами за считаные минуты. Но в какие-то мгновения я целиком погружался в старое время, со всех сторон окруженное лабиринтами нового.
В полдень в Бад-Ребурге, в гостинице Тегтмайера, который учился с Фридрихом Георгом в одном классе. За бокалом вина мы предались воспоминаниям. Было приятно видеть, с какой уверенностью тот посреди разговора иногда поднимался со своего места, чтобы поухаживать за другими гостями, и как затем снова усаживался за наш столик с улыбкой, как бы указывающей на то, что от роли хозяина он опять возвращается к роли старого друга. Мы отметили в нем одну черту, какая весьма подходила б ему, будь он пастором, однако не портила его и как трактирщика. Впрочем, всякое сословие покоится на сакральном фундаменте.
Потом мы пили кофе в миниатюрном замке, в укромной комнатке для пирушек, расположенной в башне, откуда открывался вид на первозданный ландшафт, прорезанный водами, болотами и топями, – дикая местность, по которой проходил Германик. Глубокая меланхолия лежит в ней, и горечь.
Потом – в Штадтхагене, где в серной воде кратерного источника мы увидели букеты цветов, которые, не изменив ни формы, ни красок, стоят там уже долгие годы – зрелище, на мой взгляд, удивительное и вместе с тем отталкивающее. Так мог бы сохранять головы поверженных врагов какой-нибудь деспот, чтобы, прохаживаясь по саду, с неустанным постоянством любоваться их видом. В Кирххорст возвращались по автобану. По такой дороге я ехал впервые, меня поразил высокий уровень техники – machina machinarum.
В почте – альбом с иллюстрациями Тулуз-Лотрека, к которому приложена открытка от Рене Жане́. Чтобы в полной мере насладиться этими красками, нужно понимать прелесть увядающих цветов. Здесь есть что-то сатанинское, что особенно отчетливо видно на картине с названием «Au salon»[47], где в гранатово-красных тонах изображен ад похоти. В других работах тот же эффект, но с позитивным оттенком. Например, на картине «Mailcoach»[48] мимо нас раскаленным снарядом проносится карета, а земля взрывается под копытами чистокровных рысаков. Такие вещи, несомненно, еще долго будут доставлять удовольствие; и всё же, созерцая их, замечаешь, как глубоко еще сидит в нас образ XIX столетия.
Кирххорст, 26 мая 1939 годаСкверное настроение, в общем-то беспочвенное, когда вокруг всё цветет. Развесистые кусты золотого дождя, своим роскошным сиянием украшающие сад, служат доказательством тому, что в изобилии нет недостатка. К тому же я каждое утро работаю над «Мраморными утесами». Завершил изображение патера Филлобиуса. Надеюсь, мне удалось избежать католических клише.
Во второй половине дня – в Бургдорфе, где я всегда охотно бываю. В городе есть какое-то сухое и твердое ядро, которое смогло выстоять во всех перипетиях истории.
Правда, в нем не чувствуется и никакого подъема, высокого полета. Когда я смотрю на эти старые дома, у меня появляется надежда, что человеческий род так скоро не истребится. Ко мне приходит запоздавшее, но неотвратимое понимание того, что в жизни именуется постоянством.
На кладбище, утопающем в цветах. Всегда отрадно видеть играющих там детей, пока их матери хлопочут у могил. На одном из холмиков – кустик плачущих сердец. Он весь усыпан цветами, а потому хорошо подходит для кладбищ. Алые цветы в форме капель, как медальоны, покачиваются в ласковом дыхании ветра. Я задумался о собственном надгробном камне, где должны быть лишь имя да две даты. Думать об этом было приятно.
На обратном пути я сделал привал на небольшой вырубке неподалеку от Байнхорна и на самом солнцепеке присел на дубовый пень среди полураскрывшихся папоротников, побеги которых еще покрывал коричневый бархат. Настроение немного улучшилось, и, как часто бывает со мной в такие моменты, во мне проснулся тонкий охотник. Еще доро́гой мне без труда попался долгоносик Magdalis, который своим названием обязан шипам, расположенным у него на шейном щитке. Вслед за тем я обнаружил под дубовой корой крошечного Laemophloeus duplicatus, которого позднее определил под микроскопом не только благодаря двум пояскам, украшающим его головку и шейный щиток. Я даже ясно разглядел тоненькую центральную линию, которую можно увидеть не всегда. Потом из заплесневелой древесины дуба я извлек одного Scolytus intricatus – да к тому же самца, на что указывала пара тонких волосяных кисточек, торчащих на его лобной части. Напоследок следовало бы еще упомянуть пятнистого Litargus, с которым я впервые свел знакомство минувшим летом в Клостерфорсте между Юберлингеном и Бирнау. Как часто бывает в подобных случаях, он больше не кажется мне редкостью – потому что узнаешь не только животных, но прежде всего способ видеть их в великом ребусе природы.
Кирххорст, 27 мая 1939 годаПостепенное улучшение. В «Мраморных утесах» я, пока временно, заменил «гадюк-медянок» на «пиковых гадюк», что в зоологическом отношении более двусмысленно. Еще я допускаю, что на мраморных утесах могут обитать коршуны. Наконец, следует осведомиться о породах крупных собак, чтобы достаточно точно изобразить борьбу во время травли. Встреча собак со змеями видится мне как столкновение крови с одной из ее квинтэссенций – ядом.
После полудня с Фридрихом Георгом в Моормюле, где мы за чашкой кофе брали у шофера уроки вождения, после этого – в Хеессель и по узким проселкам – в леса вокруг Колсхорна. У одного перекрестка мы залюбовались старым дорожным указателем из дубового дерева, похожим на одну из тех сатурнических фигур, какие любит изображать Кубин[49]. Здесь я впервые за этот год услышал звонкие переливы иволги в дубовых кронах.
Во время поездки Фридрих Георг, обычно немногословный в том, что касается его работы, объяснил мне структуру своего нового сочинения «Иллюзии техники»[50]. Хромоту Виланда и Гефеста он назвал типичным дефектом. Затем говорили о природе огня, похищенного Прометеем у богов. На очередном изгибе беседы мы принялись обсуждать оргию Дмитрия Карамазова – блистательный и ужасный образец славянской услады. За этим символически маячит отцеубийство. Во время разговора из знойного ельника прямо у нас из-под ног вспорхнула горлица – светлое опахало хвоста, само изящество.
Вечером еще успел удобрить в саду капусту, сельдерей и помидоры. На этот случай годится моя присказка, что в пряностях набиваешь уверенную руку не за один год.
Кирххорст, 29 мая 1939 годаНа Троицу визит из Гослара: мэтр Линдеманн. Разговоры о гороскопах, травах, садах, медицине. Проводив гостя на автобус, мы собрали цветы яснотки, растущие в саду в изобилии; он порекомендовал добавлять ее в чай. Урожай стоит рядом со мной: глубокая тарелка, доверху наполненная белыми лепестками нежно-зеленого оттенка с четырьмя едва различимыми черными крапинками.
Кирххорст, 1 июня 1939 годаСтарый поваленный дуб возле Гроссхорста. Мы навещаем его душными вечерами и устраиваем там субтильную охоту[51]. Жуки-усачи, бархатно-черные с бархатисто-желтыми ленточками иероглифов. В пылу совокупления они блуждают по горячей коре, едва держась на ногах от похоти и солнечного восторга, затем, разъединившись, как бы в раздумье застывают еще на некоторое время в одной позе и с шумом улетают. Затем – красный phymatodes, пурпурноворсистый, которого я до сих пор встречал лишь однажды, в 1915 году в Сен-Леже во Франции. Еще – бупрестиды и прекраснейший из них – chrysobothris. Бронзовый, с золотистыми впадинками, он расправляет крылья, а под ними оказывается вторая пара, похожая на сияюще-зеленое шелковое женское белье. Потом я сбился со счета.
Кирххорст, 4 июня 1939 годаВ саду царит сильная засуха. Поэтому после захода солнца мы носили воду ведрами и лейками. После такой поливной кампании вечером можно спокойно вычеркивать два рабочих часа, когда я обычно привожу в порядок бумаги и пишу письма. И всё же время потрачено не впустую. По осени думаю вкопать торф вместе с листвою, чтобы почва лучше держала воду.
С утра – в церкви, где читает проповедь новый пастор из Изернхагена. Во второй половине дня – к Филлекуле. По дороге Фридрих Георг сделал мне второй доклад об «Иллюзиях техники». Вечером я прочитал три его стихотворения с гранок, которые Херберт Штайнер[52] прислал мне из Цюриха. Из них мне больше всего пришлось по душе стихотворение под заглавием «Мать», в нем была какая-то энергия. Фридрих Георг высказался в том смысле, что стихи, в которых чувствуется волнение стихий, ему сегодня больше не удаются, потому что его язык отныне больше обращен на изображение неподвижного. Затем беседа о поэтическом образе любовных чар, о Рембо, Родене, об Эрехтейоне на Акрополе. Близость Фридриха Георга с детских лет служит мне огромным утешением.









