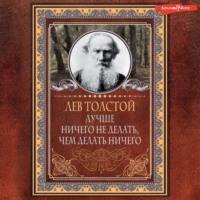Полная версия
Дьявол
– И много денег? – спросила еще Акулина.
– Три полтысячи рублев, – небрежно отвечал Поликей.
Она покачала головой.
– Когда ехать?
– Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь, какую хочешь, зайди в контору и ступай с Богом.
– Слава тебе, Господи! – сказала Акулина, вставая и крестясь. – Помоги тебе Бог, Ильич, – прибавила она шепотом, чтобы не слыхали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. – Ильич, слушай меня, Христом Богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.
– А то пить стану, с такими деньгами ехамши! – фыркнул он. – Уж как там в фортепьян играл кто-то, ловко, беда! – прибавил он, помолчав и усмехаясь. – Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.
И они легли спать счастливые.
VСходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса, и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику, – думала она, – по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».
Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и нападал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что́ он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре в коршуна. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его бы сравняли с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова; но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.
Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен, и со всей высоты своего роста, всею силой звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один, с добродушнейшею рожей и окладистою русою бородой, Храпков, все приговаривавший: «друг ты мой любезный», и другой маленький, с птичьею рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «выходит, братцы мои», обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, Бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцовитым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что́ ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.
– Так-то и мой дед в солдатах был, – говорил Резун, – так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрили, а его дядя еще домой не приходил.
– У тебя ни отец, ни дядя царю не служили, – в одно и то же время говорил Дутлов, – да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделились. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно, да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по Божьему, мир православный, а не так, что́ пьяный сбрешет, то и слушать.
В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:
– Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.
Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:
– То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она може велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот-те и закон, – сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.
Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: – Вот так, так! – и даже сел с досады на приступку.
Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.
– И точно, мир православный, – говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова, – надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.
– Надо по совести судить, друг ты мой любезный, – говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп, – на то господская воля была, а не мирское решение.
– Верно! Вон оно что́! – говорили другие.
– Кто пьяный брешет? – возражал Резун. – Ты меня поил, что ли, али сын твой, что́ по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что́, братцы, надо решенье сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.
– Дутлову идти! Что́ говорить!
– Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать, – заговорили голоса.
– Еще что́ барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели, – сказал чей-то голос.
Это замечание задержало немного спор, но скоро опять он загорелся и снова перешел в личности.
Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.
Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе, и стал спрашивать:
– Кто украл?
– Ты украл, – смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.
– Кто украл? не ты ли? – кричал Резун.
– Нет, ты! – кричал Игнат.
После пилы дело дошло до краденой лошади, до мешков с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.
Дутлов старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.
Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.
Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.
– Разве из баловства делились? За что́ ж их теперь разорить вконец? – послышались голоса деленых, и болтуны пристали к этим голосам.
– А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! – сказал Резун Дутлову.
Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков. – Ты мои деньги считал, видно, – проговорил он злобно. – Вот что́ еще Егор Михалыч скажет от барыни.
VIДействительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу, затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке, и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.
– Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.
– Известно! Это дело! – сказали голоса.
– По моему суждению, – продолжал Егор Михайлович, – Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти, – это уж сам Бог велел.
– Так точно, верно, – сказали голоса.
– Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?
– Дутлову, – заговорили голоса, – Дутловы тройники.
И опять понемногу, понемногу – начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.
– Мой что ль? Покажь сюда, – сказал Илья оборвавшимся голосом.
Все молчали. Егор Михайлович велел принесть к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.
– Жалко мне тебя, старик, – сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, – на тебе черед. Не купишь за племянника, или купишь?
Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.
– Не миновать, – ответил Егор Михайлович на его взгляд.
– И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)
Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.
– Эх, старый, не греши! – сказал он, – а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.
– В губерни? – спросил Дутлов, под губерней разумея город.
– Что ж, купишь?
– И рад бы, вот перед Богом, да…
Егор Михайлович строго перервал его:
– Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришлю, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что́, избави Бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?
– Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно, – сказал он, помолчав, – как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что́ же на меня напасть такая? – заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.
– Ну, ступай, ступай, – сказал Егор Михайлович, – ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.
Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.
VIIНа другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигеря» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик езжал), запряженная ширококостым гнедым мерином, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В угле происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стряпню в печи, и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери, – Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе – той иголок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке, и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальною иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, – кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и тухли, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.
Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «плокатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятерился.
Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа, изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.
Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, – он едет теперь получать сумму денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, не от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублев. Но Ильич так не думал, он заблуждался и приятно заблуждался. Три полтысячи рублев повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда Бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поровнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то что у него были деньги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпрег, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, тапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что́ ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее, и наконец со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублев уступил», – сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно, – так верно, как не доставил бы и сам приказчик.
VIIIОколо полуночи и купцовы работники, и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.
– Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? – спросил староста.
– Ужинать, – отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке. – Посылай за водкой.
– Будет те водки-то, – отвечал староста мельком и снова обратился к другим: – Так хлебца закусите, ребята. Что́ народ будить?
– Водки дай, – повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.
Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.
Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». – Вдруг он увидал Поликея: – Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой… Как выла! В солдаты упекли. Поставь водки.
– Денег нет, – отвечал Поликей. – Еще, Бог даст, затылок, – прибавил Поликей, утешая.
– Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?
Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.
Илья подвинулся к печи и разговорился.
– Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают… Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за что́ погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.