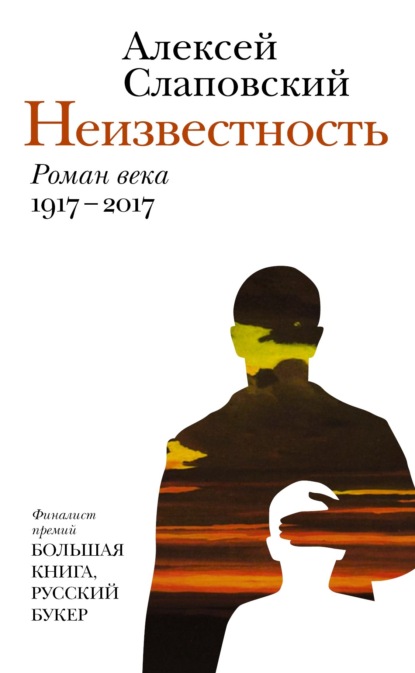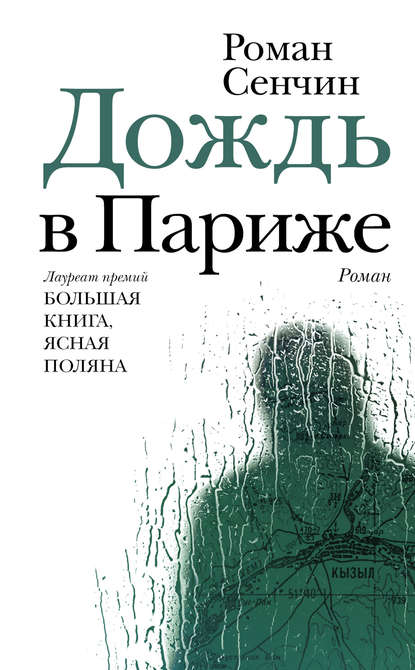Полная версия
Елтышевы.
Но оказалось, придется уволиться раньше времени, уйти в неизвестность. Невозможно стало ловить враждебные взгляды сослуживиц, посетителей, каждый из которых знал о ее муже…
«Уголовное дело, – долбилось в голове, – уголовное дело». Сколько сил, нервов, сколько денег потрачено, когда сына судили, а вот через два года то же самое – с Николаем. И если в первом случае ей в основном сочувствовали – мало ли драк между парнями происходит, и сын не ножом ведь, не заточкой врага своего, а голым кулаком, – то теперь наоборот.
А что Николаю делать было? Эти буянили, вырывались, другим трезветь мешали, вот он и запер в изолятор. И как просчитаешь, на сколько кислорода хватит, как оно всё получится. Разве ж он знал, что так – у пятерых отек легких, в реанимацию пришлось класть, еле откачали. И может быть, все бы замять удалось, извинились бы, как-нибудь договорились, но в городской газете статья появилась. Тут уж пошло-поехало.
Известно же, как журналисты милицию ненавидят, а среди пострадавших оказался их коллега. Вот и раздули…
Много чего могла бы Валентина Викторовна сказать следователям, кажется, способна была объяснить, убедить, что ее муж не виноват, – но ее не спрашивали. Даже Николай запрещал об этом случае вспоминать – сразу беленился. А как не вспоминать, не говорить, если всё теперь вокруг этого крутится? Что, успокаивать себя, что не посадили, а дали условно четыре года? Но все равно ведь – жизнь рухнула, и нужно теперь из-под обломков выбираться, как-то восстанавливать, налаживать.
А ведь могло же, могло всё по-другому сложиться. Останься она в крайцентре, выйди замуж за одного из тех интеллигентных, тонких юношей, которые пугали этими своими тонкостью и интеллигентностью, принимаемыми ею за подловатость. И жила бы теперь в миллионном городе, стала бы, не исключено, заведующей библиотекой, огромной, светлой. Или нигде бы не работала, заботилась о доме, о муже, каком-нибудь директоре завода; дети бы институты уже окончили, тоже бы… Нет, лучше тогда было вернуться в деревню, учить детишек. Надежная изба на высоком фундаменте, огород, корова…
Давно она не была на родине, и деревенская жизнь представлялась как нечто светлое, единственно правильное. Да и к кому туда ехать? Дом после смерти родителей продали, деньги разделили между собой дети, все уже давно жившие в городах. Никого там родни не осталось, только тетка Таня – старшая сестра матери, пережившая и мужа своего, и всех трех детей. Но, может, и ее уже нет – лет за восемьдесят ей далеко… Надо бы, по-хорошему, съездить, поглядеть, только как сейчас… Ох, господи…
Их четырехэтажный дом, один из первых построенных в городе многоквартирников, сегодня показался Валентине Викторовне убогим, покосившимся, особенно обшарпанным. Наверное, самозащита так работала – ведь очень скоро этот дом будет для нее и ее семьи чужим, им тут скоро не жить.
Во дворе она снова присела, отдышалась – состояние такое, словно взобралась на высокий холм. Глянула по сторонам. Напротив – еще одна такая же четырехэтажка: мутные стекла, балконы забиты старой мебелью, какими-то досками, расползшимися коробками. Во дворе – детская площадка с песочницей, деревянной поломанной горкой, качелями, которые пронзительно скрипели, если на них качались; заросшая полынью хоккейная коробка, на растянутых меж тополями веревках сушится сероватое, застиранное белье… Безрадостная, конечно, картина, даже золото сентябрьских листьев не особенно ее украшает, но ведь столько здесь прожито… Здесь сыновья ее выросли…
Через силу, тяжелым рывком поднялась. Нужно идти. Ужин готовить. И – разговор предстоит. Сегодня Николай с начальником ГУВД Вересовым должен встретиться; сегодня должно стать ясно: или все-таки в пропасть их семья полетит, или есть еще шанс удержаться.
Сама открыла ключом дверь, вошла. В большой комнате бубнил телевизор, в ванной шипел душ. Но, несмотря на живые звуки, атмосфера тревожная, гнетущая. «Будто покойник в доме», – вспомнилась Валентине Викторовне поговорка, и она тут же себя обругала, испуганно-просяще добавила: «Не дай бог, не дай бог».
Хотела поздороваться – объявить о своем приходе, как делала обычно, – но не стала. Молча сняла сапоги, повесила на вешалку пальто.
Николай сидел в кресле. На экране телевизора скакали полуголые худые девицы, наперебой пели слабыми голосками:
Отмени мой домашний арест,
Отмени мой аре-ест!
Сострадание к мужу тут же сменилось раздражением, негодованием даже. И Валентина Викторовна жестко спросила:
– Ну что?
– Что? – Николай как-то пугливо взглянул на нее, взял с журнального столика пульт, сделал звук телевизора тише.
– Поговорил с Вересовым?
– Поговорил.
И, поняв, что ждать хорошего нечего, Валентина Викторовна все же задала новый вопрос:
– И как?
– Как… Хреново. Всё. – Николай, кряхтя, пошевелился в кресле. – В течение месяца освободить площадь… Вересов сам на иголках – сплошные проверки, начальник службы собственной безопасности новый, из края поставили…
Он еще говорил, говорил что-то бесцветно и виновато, тоном объясняющего, где загулял вчера, муженька, но Валентина Викторовна не слушала – в мозгу засела и повторялась одна фраза: «В течение месяца освободить…» Это значит – выселяться со всеми вещами, горшками, телевизором этим несчастным (взяла пульт и выключила его вовсе), с диваном огромным, скрипучим, с книгами, которые давно никто не читает. Взять и оказаться на улице.
– И, – перебила мужа, – и как теперь?
Он вспылил:
– А я знаю – как?! Как! Извиняюсь, мало денег с алкашни собирал, не хватает нам на квартиру.
Валентина Викторовна села на диван, пружины с писклявым стоном сжались. Муж же, наоборот, вскочил, заметался по небольшому свободному пространству комнаты:
– Тридцать лет проработал! Улицы эти топтал пэпээсником! И вот… Сволочи!
– Погоди, – пересилив страх перед его криками, остановила Валентина Викторовна; муж кричал подобное за последние месяцы не раз и не два. Пора было искать какой-то выход. – Погоди, давай решать.
– Чего тут решать?! В петлю башкой…
– Пре-кра-ти!
Появился сын. Мокрый, голый, с намотанным на бедра полотенцем. Хмуро взглянул на родителей, пошлепал к себе.
– Артем, – окликнула Валентина Викторовна, – подойди сюда.
– Что? – он остановился, но не обернулся.
– Подойди, я говорю!
Подошел. Высокий, крепкий, с волосатой грудью молодой мужчина, а глаза – детские, насупленного ребенка…
– Так, Николай, – Валентина Викторовна почувствовала небывалую решимость, – Николай, присядь. Так, давайте решать… Семейный совет.
Сын хмыкнул.
– Ну-ка! Сядь тоже быстро! Нас со дня на день на улицу вышвырнут, а он хмыкает… Так. – Постаралась успокоиться. – Так, какие у нас варианты? Во-первых, можно снять квартиру…
– Двухкомнатка – пять тысяч за месяц, – вставил сын.
– Откуда ты знаешь? – Зарплата Валентины Викторовны была четыре семьсот.
– Ну, спрашивал.
– Дом тогда, может…
– И что? – подал голос муж. – Ну, снимем, год проживем, два… Нам с тобой недолго осталось, а они, – кивнул на сына, – Денис вернется.
Валентина Викторовна хотела сказать, что надо об этом было заранее думать, что эта квартира – ведомственная, не их, и такое рано или поздно случилось бы. Не стала, боясь нового взрыва… И тут, как светом блеснуло в голове, нашелся выход.
– Тогда, может быть, так: в деревню? Сорок километров отсюда.
– В эту, – поморщил лоб Николай, – в твою? – Сам он был местный, городской, но давно растерял родню, а тот барак, в котором провел детство, снесли еще в семидесятых.
– А куда еще? Там тетка, жива, наверно… Изба у нее.
При слове «изба» Артем опять чуть было не хмыкнул. Валентина Викторовна заметила:
– А что?! Что еще? Вот работал бы, учился… Двадцать пять лет мужику, а всё как этот…
– Но ты-то работаешь, – перебил муж. – Оттуда, что ли, мотаться каждое утро?
– Уволюсь. Не могу больше видеть их… Я ведь тоже не железная, чтобы так… Сама как убийца себя чувствую.
Николай кряхтнул и отвернулся.
Некоторое время молчали. Сын ежился, мерз, но, видимо, понимал, что взять и пойти сейчас одеваться – опасно. Разорутся, что ему все равно. Нужно дотерпеть.
– Ну, – первой заговорила Валентина Викторовна, – как?.. Завтра возьму отгул, съезжу. Может… Может, и ничего там нет уже… А? – Посмотрела на мужа, на сына. – Как-то ведь надо… А? – Они молчали, и Валентина Викторовна опять стала терять терпение, в горле заклокотал крик. – Куда-то ведь надо деваться нам, в конце-то концов!
Сошлись на ее варианте. Муж – обреченно; сын, казалось, – равнодушно.
Валентина Викторовна переоделась в халат, пошла на кухню. Готовить ужин. Достала из-под морозильника размороженный кусок свинины, поставила воду для рожек. Выбрала из корзинки луковицу… Движения были четкие, заученные десятилетиями повторений, но стоило взглянуть на какую-нибудь вещь – на кухонный шкаф, на давно уже не используемую ручную соковыжималку, на форму для торта – и руки опускались. Каждая вещь словно кричала, вопила жалобно и настойчиво: «Возьми меня! Не выбрасывай! Я пригожусь!» И представлялись скорые неотвратимые часы, когда нужно будет упаковывать, сортировать, вытаскивать мебель, куда-то ее грузить… Валентина Викторовна боролась с желанием бросить нож, сесть на табуретку, зажмуриться. Не быть.
Вошел Николай, постоял, необычно для него нерешительно переминаясь с ноги на ногу, потом предложил:
– Может, я это… за бутылкой схожу… Что-то трясет прямо… Напряжение снять.
Валентина Викторовна кивнула:
– Сходи. Только получше купи какую. – Ей тоже хотелось немного выпить.
Глава третья
Деревня называлась Мураново, по протекающей рядом речке Муранке. Когда-то это было село – на холмике стояла церковь, которую в шестидесятых снесли, и поставили на ее месте похожий на амбар клуб.
Главной улицей в Муранове была дорога в дальнюю деревню Тигрицкое. Дорога была асфальтовой, но асфальт давно разбила совхозная техника, и его не ремонтировали. Шофер, когда подгонял свой «зилок» к дому, изматерился, тщетно пытаясь объехать ямы и рытвины, а Валентина болезненно морщилась, представляя, как колотится в контейнере посуда, техника.
Изба тетки Татьяны находилась в самом центре деревни: справа через три двора – контора с почтой, еще через двор – магазины, из которых работал только один; остальные же два наглухо, с давних пор заперты. Слева от избы тетки была двухэтажная школа, самое старое в деревне здание, а почти напротив – клуб и водонапорная башня.
В последний месяц Николай Михайлович несколько раз сюда приезжал – привозил кой-какие вещи, сдавал документы на прописку, слегка подремонтировал комнату, где предстояло жить, – вроде бы немного свыкся с мыслью, что это теперь их дом, но каждый раз теткина изба вызывала у него нечто похожее на ужас. Ужас перед тем, как перезимуют в ней, сколько предстоит сделать за лето, чтобы следующую зиму встретить в более-менее человеческих условиях.
Николай Михайлович приезжал сюда на автобусе – машина, по закону подлости, была серьезно сломана, – ни с кем из местных старался не заговаривать, поменьше общаться с хозяйкой. Она, маленькая, ссохшаяся, в основном сидела на табуретке возле непомерно большой для такого домишки, закопченной полосами печи, смотрела в пол выцветшими, стянутыми морщинами глазами… Поначалу, обнаружив во дворе гниловатую, хотя пригодную на первое время доску, Елтышев обращался к тетке Татьяне: можно ли использовать. Она тяжело взмахивала рукой-сучком, вздыхала: «Бери-и. Мне-то она на что уж…» И вскоре он перестал ее спрашивать, почти не замечал.
Утепляя пол, потолок, вынося из комнаты развалившийся стол (его место должна была занять часть стенки из квартиры), Николай Михайлович не верил, да и не желал верить, что теперь это дом для его семьи. Теперь им в этом покривившемся срубе жить, и, может быть, отсюда их с женой когда-нибудь понесут на кладбище.
Но был нанят ЗИЛ, контейнер заполнен тем, что составляло обстановку двухкомнатной квартиры, ненужные вещи оказались на мусорке, и водитель торопил ехать.
Когда в последний раз обходили пустые, посветлевшие комнаты, жена взвыла, как на похоронах, повалилась; Николай Михайлович подхватил ее, быстро и грубо вывел. На площадке отдал ключ начхозу ГУВД. Подсадил Валентину в кабину, сказал сыну, что ждут его в деревне – Артем должен был добираться автобусом, – оглянулся на дверь подъезда, бросил тело внутрь ЗИЛа. Захлопнул дверцу, велел скорее не водителю, а себе:
– Всё, поехали!
Только стали с женой разгружать контейнер, заморосил дождь. Мелкий, но, кажется, затяжной, октябрьский.
– Как назло, – ругнулся Николай Михайлович и торопливо, бережно, но и словно на свалку, понес в избу дорогую, не так давно купленную стеклянную тумбочку.
Шофер помогать не вызывался, покуривал, слушал магнитофон («Ну где же ручки? – пело в кабине. – Ну где же наши ручки?..»), иногда заглядывал в контейнер и досадливо кривился – убывало медленно.
Тетка стояла на низком крыльце, скорбно наблюдала, как носят вещи; она попыталась было принять участие, но не смогла дойти до ворот…
Несмотря на середину буднего дня, улица была пуста, но Николаю Михайловичу казалось, что из всех окон, из-за всех заборов за ними наблюдают, следят любопытные… И вот один не выдержал – появился, подошел.
– Здоровенько. – Высокий, сухой, с запущенной, почти ставшей уже бородой, щетиной; на голове – черно-рыжий комок зимней шапки. – С приездом.
– Спасибо. – Елтышеву было не до разговоров. Вытянул из контейнера мешок с одеждой, понес.
Комната быстро заполнялась вещами; Николай Михайлович сунулся в летнюю кухню. «Придется сюда».
– Чего, – местный ждал у машины, – помочь, может? А то, гляжу…
– Ну помогите. – Елтышеву предстоял холодильник.
Мужик оказался слабым, больше кряхтел, стонал, чем таскал. И постоянно комментировал:
– В-во, табуреточки! У меня такие ж почти… Добрая полка… Люстра на семь лампочек…
Николаю Михайловичу казалось, что он на аукционе, где распродают его пожитки…
Но дело все-таки пошло побыстрее, и приехавший в половине второго Артем застал контейнер почти пустым. Отнес одно, другое – и всё.
– Ну во-от, – облегченно, будто потрудился больше других, выдохнул водитель; свел стальные створки, лязгнул засовом. Выжидающе посмотрел на Николая Михайловича.
– А, да, – тот понял, достал бумажник, выбрал две сотни. – Держи. – За перевозку он уже заплатил в агентстве, но нужно было отблагодарить лично и шофера – что не капал на нервы, не мешал, довез, в конце концов, без неприятностей.
– Благодарю. – Шофер еще раз выдохнул, прыгнул за руль и, перед тем как захлопнуть дверцу, пожелал: – Счастливо вам!
Елтышев кивнул. Щелкнуло зажигание, тыркнул трамблер, и мотор завелся; из выхлопной трубы вырвался синеватый столб дыма. И когда ЗИЛ тронулся, медленно, но безвозвратно разрывая последнюю нить с прошлой жизнью, снова похоронно завыла жена.
– Да перестань ты! – вспылил Николай Михайлович. – И без тебя!.. – И почувствовал желание встряхнуть ее… Тоже взвыть.
Сдержался, вцепился взглядом в коричневый прямоугольник контейнера, который становился меньше, мельче; дорога пошла под гору, и вот контейнер исчез. Но еще долго все трое Елтышевых – муж, жена и их сын – стояли у раскрытых черных ворот и смотрели в ту сторону, куда уехал ЗИЛ. В сторону города.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.