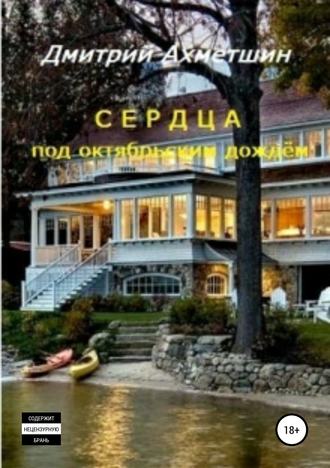
Полная версия
Сердца под октябрьским дождём
В конце концов я набрал горошин и принялся с бессильной злобой кидаться ими в вентиляцию. Она рыгала и урчала, принимая пищу как большое чудовище, но не раскрывала своих тайн.
Чертовщина какая-то. Я словно младенец, начавший осознавать, что не только мир огромен и полон неуклюжих вещей, но и пухлые отростки, называемые руками, ни на что не способны. Чертовщина завладела этой квартирой, да… но она ещё и во мне самом…
2.
Мальчишку узнать было нетрудно. Он был wrong guy in the wrong place – не тем парнем не в том месте. Эта часть школьного двора усыпана заброшенными гаражами – кто знает, почему их до сих пор не снесли и что они вообще делают на территории учебного заведения. Старшие ребята паслись здесь, возле забора, в ожидании прохожих, у которых можно стрельнуть сигаретку (при виде благовоспитанных мамаш они чинно прятали руки в карманы). В любое время дня здесь торчал какой-нибудь шалопай из девятого класса, а тех, что помладше выгоняли взашей, иногда лишая при этом карманных сбережений.
Тем не менее, Павел был здесь. Его сторонились, словно неприкасаемого. Несколько подростков под козырьком школы мрачно пользовали своё курево. Накрапывал дождь.
– Эй, малыш! – позвал Юрий.
Ноль внимания. Юра не видел, зажата ли в его пальцах сигарета – если и так, она уже давно потухла. Мальчишка просто сидел на перевёрнутом жестяном ведре и смотрел в небо. Казалось, он следит за чем-то определённым, но молодой учитель в небе ничего не видел. Может, просто чайка пролетела? Или пакет занесло на невообразимую высоту… Юрий не мог похвастаться зрением, орудия для глаз, что неподвижно сидели на носу, казались ему сейчас родичами московской царь-пушки.
Он посмотрел на одного из хулиганов у стены. Взглядом показал на малыша и получил в ответ пожатие плечами. «Все знают», – понял он. Никто не решился к нему подойти, а если кто и подходил, то не стал применять силу. Возможно, из жалости, но скорее всего из страха заразиться этой болезнью. Болезнью горя, болезнью неприятия этого мира таким, каким он есть, болезнью бессилия что-либо изменить.
Хорь вздохнул и пошёл, стараясь переступать через лужи, через сплющенные банки от колы и бог знает какую ещё гадость.
– Послушай, Паша. Меня зовут Юрий Фёдорович, через год я буду вести у тебя историю, и… и ещё целую прорву предметов.
Хорь понял свой промах и хмыкнул. Ничего из того, что он сказал, не было к месту. Он вздохнул и поправился:
– В смысле, я мог бы их вести, если бы не случилось то, что случилось. Прости. Знаю, что не подберу нужных слов, чтобы тебя утешить. Вряд ли кто-то смог бы это сделать, но почему-то испокон веков считается, что в нашей власти научить не только делить в столбик, но и выбираться из любой жизненной передряги. Здесь твоя учительница, Юлия Сергеевна. Вон там, на крыльце стоит. Говорят, что биология давалась тебе лучше всего. Что вы с ней находили общий язык. Не хочешь с ней поболтать?
О том, что Юля сама рыдает в три ручья, Юрий решил умолчать. Отчего-то он знал, что мальчика не заинтересует его предложение. Он остался один в целом мире и должен выкарабкаться самостоятельно. Сам себе протянуть руку помощи.
Юра вытащил из подмышки кепку, пожертвованную Олегом, здоровенным молчаливым физруком с бородой, с узким лицом и блестящими чёрными глазами. Он отчаянно хромал, и среди учеников считалось очень плохим знаком, если он обгонял тебя на пробежке на школьном стадионе. Это значило, что тебя запомнили, что тебе, нерасторопному лосю или пыхтящему потному толстячку-лежебоке, объявлена война, и оружие не будет сложено, пока ты не пробежишь стометровку за двадцать секунд. Кепка была мятой, пропахла потом и псиной (Юра подозревал, что ощенившаяся год назад сука по имени Аглая, живущая в сторожке у ворот, вырастила в ней своих щенков). Герб Санкт-Петербурга на околыше приобрёл грязно-бурые оттенки.
Нахлобучил кепку на голову мальчишке. Волосы совершенно мокрые. Паша никак не отреагировал, продолжая следить за чем-то высоко вверху. Возможно, он видел, как там зарождается капля дождя, готовится прожить стремительную, насыщенную событиями жизнь, упав в подушку городского смога. Юрию видны бороздки, что чертила стекающая по лицу вода, будто лоб и изящный нос вырезаны из мыла. Глаз он не видел.
Подростки исчезли. Из урны струился дымок недокуренных сигарет. Никто не захотел слушать, что учитель скажет мальчику, потерявшему родителей.
– Знаешь, завтра мы с тобой отправимся в путешествие.
Несколько долгих секунд Юра думал, что мальчик ничего не скажет. Но потом он повернулся и смерил взрослого долгим взглядом.
– Ехать? Я никуда не поеду.
Кепка на голове кренилась вправо, будто подбитый корабль.
Юрий тряхнул головой, пытаясь избавиться от странного морока. Каждое сказанное мальчишкой слово могло сломать Хоря, как шоколадного деда мороза в фольге. Он обязан ехать. Видение разделительной полосы, убегающей в бесконечность, должно воплотиться в жизнь. Торопясь дать упредительный залп, пока его не стёрли в порошок, Юра сказал снисходительным тоном:
– Ты же не сможешь жить здесь один.
И тут же обругал себя последними словами. Нельзя говорить «ты не сможешь» ребёнку, который оказался в такой ситуации… Да дело даже не в том, что он ребёнок. Человеку. Человеку, который отныне может надеяться только на себя. Он удивился, увидев, что в глазах малыша зажглись искорки любопытства.
– А вы знаете, как погибли мои родители?
– Разбились на машине.
Юра внутренне паниковал. Шершавый язык прилип к нёбу. Мальчишка выразительно надул щёки, глаза его плавали в глазницах, как кусочки жира в борще. Мочки ушей были отчаянно-синими. Он казался бодрым, но было ясно, что это иллюзия.
– Папа пьян был. У него неприятности на работе. Я неделю слушал, как они с мамой разговаривают по ночам, кричат друг на друга… Иногда он куда-то звонил, чтобы сказать: «Я сделаю это завтра. Я завалил все сроки, но обещаю… я прямо сейчас работаю над этим». Ночами он бродил по дому – каждый раз, когда он проходил мимо моей комнаты, я просыпался, а просыпался я раз двести, – а потом садился в машину и уезжал. Но не на работу, а пить. Наутро звонил маме, чтобы она забрала его, потому что он не мог ездить на такси или автобусе, он мог ездить только в своей машине. Положено по статусу. Так было и в этот раз. Мы с мамой ждали звонка, и она была как бомба с часами. Потом она проводила меня в школу, а сама уехала за папой. А они всё тикали, часы эти, и зазвонили знаете когда? Когда родители поворачивали с Петропавловской на Софийскую.
Юрий почувствовал, как у него дрожат колени. Хотелось уйти, но всё что он мог – опуститься на корточки рядом с ребёнком.
Мальчишка пожал плечами. Свитер его промок насквозь, но не свитер больше беспокоил Юрия, а глаза; они немного косили и словно созерцали в слегка поехавшем мире новый пласт реальности.
– Мама говорила всю дорогу. Она сказала, что как только приедем, я задам тебе трёпку, дворовый ты пёс. Паша в школе, и это хорошо: не нужно, чтобы он видел тебя в таком состоянии. Он умный мальчик и, конечно, о чём-то догадывается. Я догадывался. Тогда только догадывался – а теперь знаю. Всё знаю, понимаете? Именно тогда она увидела, что он уже не тот человек. Он испортился, как мясо, которое забыли на столе на несколько дней. Что дальше будут только проблемы, много проблем. Она решила, что позаботится обо мне сама. Если бы не я, всё могло бы быть совсем по-другому. А папа, он работал в крупной фирме и ему обязаны были выплатить страховку, если с ним что-то случится. Огромную сумму.
– Ты очень умный малый, правда? – сказал Юрий, надеясь воздвигнуть плотину перед бурлящей рекой речи. Он ясно представил, как, протянув руку, почувствует пустоту вместо холодных щёк. Пашка будто нарисован на промокшей бумаге. – Знаешь, что такое страховка и всё такое… современные дети знают столько…
Взгляд мальчика на мгновение обрёл осмысленность. Он посмотрел через плечо Хоря, туда, где в окнах школы отражались свинцовые тучи. Мог ли он видеть людей, что там столпились? Учеников, учителей… Юра знал, что они отшатнулись, едва увидели поднятый подбородок мальчишки. Почему он не с ними, почему сразу Хорь, а не кто-то другой? Он взъерошил себе волосы. Жалеть себя, когда перед тобой осиротевший ребёнок…
– Прости, – сказал Юра. – Продолжай.
Секунду или две казалось, что мальчик не скажет больше ни слова, но что-то стучалось изнутри, так, что невозможно было не распахнуть эту закрытую дверь, и он продолжил говорить, словно против своей воли:
– Мама была за рулём, и она пристегнулась. Папа никогда не пристёгивался. Мама… может, она отвлеклась, когда распекала отца. Но мне кажется, она думала обо мне.
– Мамы всегда думают о своих детях, – машинально подтвердил Юрий.
– Она знала о дорожных работах, там, где проспект Свободы и Софийская, но не перестроилась в нужный ряд. Там ещё был экскаватор; машину занесло, она врезалась правой стороной, той, где сидел папа. Водитель экскаватора перепугался, задел локтями рычаги и опустил ковш прямо на кабину их машины, так, что мама получила травму головы не совместимую с жизнью. А папа погиб на месте от потери крови.
К Юре вернулся дар речи, и он сжал кулаки.
– Кто тебе всё это рассказал?
Мальчишка, кажется, не слышал. Воробьиные пальцы выудили из-под ног окурок, обтёрли его и сунули в рот – совершенно машинально. У Павла, похоже, не было зажигалки, поэтому «Пэлл Мэлл» осталась незажжённой.
– Я теперь никуда не поеду, дядя Юра, – сказал он. – Только не на машине (ну конечно, как мы могли быть такими болванами, – подумал Юрий). Я сбегу, скроюсь где-нибудь, пока не кончится дождь. То, что я знаю теперь… я не должен, вообще-то, этого знать. Езжайте без меня.
– Что же мне там делать, одному?
– У вас есть свой ребёнок? Возьмите его в поездку. Рядом с нашей деревней замечательный лес. И конюшня, где детей катают забесплатно.
– Нет, нету. Моя жена не хочет детей… слушай, а может, на поезде?
На тонких, искусанных губах появилась улыбка. Это было настолько неожиданно, что Юрий икнул.
– Вы не поймёте. Вы говорите, я много знаю… я и правда очень много знаю – сейчас. Будто смотрю в очень сильный телескоп на себя самого. Хотите знать, что я там вижу? Что я нахожусь где-то в другом месте, далеко отсюда. Не у бабки с дедом. Даже если я сяду на Рязанский экспресс, то всё равно скоро обнаружу, что еду совсем в другую сторону. Это против моей воли, понимаете? И даже вы не можете помочь.
Он вытер руки о свитер, так тщательно, словно хотел стереть, смазать линии на ладонях.
Юра откашлялся.
– Если кто-то тебя принуждает, ты только скажи…
Где-то каркнула ворона, и мужчина с мальчиком синхронно вздрогнули. Поднялся ветер, сетчатый забор, опоясывающий школу, загудел, разрезая воздух на ромбы. Юра наблюдал, как изменялось лицо Паши: это как в ускоренной перемотке смотреть, как струятся по небу облака, и меняет своё местоположение луна.
Капли на его подбородке больше не были каплями дождя. Влага, что собиралась там, была вязкой, как смола. Казалось, она сочится из самого сердца.
– Она обещала, что всегда будет со мной, – прошептал он. – Она говорила: «Папа, может быть, уйдёт, но я всегда буду с тобой, мой маленький солдат». Я спрашивал, куда уйдёт папа, но она говорила, чтобы я не беспокоился. И я не беспокоился. Я ей верил. И что теперь? Они ушли вместе. Остался только я. Она думала обо мне – всё время, и когда выкручивала руль тоже. Теперь её нет, и обо мне думает кто-то другой. Кто-то огромный, такой, что не придумать нарочно. Но я теперь буду сам за себя решать. Я никуда не поеду! Даже если он говорит, что будет легче. Не верю, нет.
Юрий вытянул руки и умостил их на плечах мальчика. С тем же успехом он мог погрузить их в песок пустыни, что дождалась дождя впервые за тысячу лет. И поняла, что дождь этот не принёс ей ничего. Она мертва по своей сути, и вся влага, все питательные вещества канут в пустоту.
– Однажды всё наладится, – сказал он первое, что пришло в голову. Звучало по-дурацки. Не это нужно было мальчику, чья жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Но фокус в том, что панацеи не существует. Невозможно щёлкнуть пальцами и сделать всё хорошо. Кажется, Паша понял это. Он обхватил руками запястья Юрия, всё ещё лежащие на его плечах, сжал их сильно, до боли – удивительно, сколько сил в этом щуплом теле – а потом отступил, уверенный, что повисшая в воздухе дымка скроет его от чужих глаз. Когда этого не произошло, он понизил голос и зашептал:
– Сейчас я убегу. Скажите им, что не смогли меня поймать. Или что я вас как-то обманул. Ну пожалуйста!
Юра глубоко вздохнул и дал себе зарок вести себя с Пашей как с взрослым.
– Тебе точно не нужна помощь?
В глазах блеснула полоумная надежда.
– Я ведь теперь всё вижу и всё понимаю! Даже то, о чём обычные, нормальные люди, вроде вас, и представления не имеют! Думаю, я выкарабкаюсь. Останусь до похорон мамы и папы. У меня есть друзья, и… и… наверное, кто-нибудь захочет пустить меня на ночь. А если и нет – в этом городе множество тайных убежищ. И от плохой погоды, и от плохих людей.
Он не смог продолжить. Из груди рвались рыдания, звук, который напоминал треск ломающейся под сапогом китайской игрушки. Они стихли так же внезапно, как и начались, и прежде чем повернуться и исчезнуть, Павел сказал:
– Вам всё равно было бы не до меня. Я не знаю, поверите вы или нет, но скоро всё прояснится. Скоро вы снимите эту маску. Приходит время стать кем-то другим. Вы добрый, хоть и пьёте, как папа… добрый и открытый. Я вдруг на секунду проник в комнату у вас в голове, а оттуда – в комнату в голове у кого-то другого… Кого-то родного вам, у кого дверь никогда не запирается. Видел такие вещи, услышав о которых вы не поверите мне, даже допустив, что всё, что я рассказал о родителях – правда.
Блог на livejournal.com. 15 апреля, 12:20. Как я стал королём в пустом королевстве.
…Ночью почти не спал. Болтался по квартире не в силах найти, чем себя занять. Позавтракал, приготовив на сковороде последние четыре яйца. Часто и нервно оглядывался. Поймал себя на мысли, что кое-как прихожу в себя только садясь за компьютер и делая новую запись. Будто между мной и вами протягивается тоненькая пульсирующая ниточка… хотя в счётчике посетителей по-прежнему ноль, я верю, что когда-нибудь эти разосланные по ветру самолётики из… электронной бумаги (как-то неловко звучит, верно?) найдут своего читателя и, надеюсь, моего спасителя. Квартира чужая. Вернулись те времена, когда я только сюда заселился, и даже ещё раньше. Иногда мерещится, как кто-то идёт по коридору и вот-вот завернёт в комнату. Один раз из кухни слышал, как в комнате девочек двигают мебель. Хотел сходить туда, но потом передумал. Стены на глазах покрываются глубокими трещинами, которые потом, стоило мне шевельнуться или моргнуть, зарастают.
Разгрёб хлам на кресле-троне, сижу, обозревая квартиру с нового ракурса. «Ты никогда меня не достанешь в этом кресле», – кричу в пустоту. Не каждый посмеет отпустить вожжи и как следует поорать в собственной квартире, верно? Несмотря на толщину стен и железную дверь, наше шестое чувство по-прежнему настроено на приём сигналов от других людей. Ты можешь их не знать, даже не здороваться в лифте, но…
Но.
Я мог орать сколько угодно. Мой радар молчал. Тем не менее, я чувствовал в квартире чьё-то присутствие. Чужое присутствие. Некто проделал в моей скорлупе аккуратную дыру и проник внутрь.
«Ты никогда меня не достанешь в этом кресле», – так говорил один парень в книге, которую я хотел написать. Он обложился самодельным динамитом и грозился себя взорвать.
Мне кажется, это была бы хорошая книга. Она называлась бы «Шаги по пустыне» и повествовала об испытаниях, что выпали на долю выживших в атомной катастрофе. Они ютятся в здании школы и смотрят, как их тела постепенно мутируют, а рядом ползают одичавшие дети, потерявшие всякий человеческий облик. А может, это собаки, которые переняли ввиду воздействия радиации внешние человеческие признаки? Я ещё не придумал.
Так вот, парень со взрывчаткой утверждал, что каждый, кому он когда-то наступил на ногу, намеренно или случайно, ходит за ним попятам. Целая вереница школьных товарищей с блеклыми белыми глазами, какие-то незнакомцы из тех времён, когда он частенько возвращался домой в подпитии. Даже бедняга, которому он проехался по ноге на машине и, не остановившись, даже не замедлив хода, умчался вдаль. Толпа и в самом деле получилась немаленькая, все эти люди выстраивались в линию, занимая очередь, чтобы отомстить.
Я отчего-то подумал, что хорошо бы следующей за его прямой речью строчкой написать другую прямую речь, вполне конкретную фразу.
«Я тебя уже достал. Это кресло – мой язык».
С минуту я размышлял над ней, поворачивая её то так, то этак, гадая, как бы её половчее вставить в несуществующий текст.
И только потом до меня дошло: при чём здесь вообще какой-то язык? Это НЕ МОИ слова. Кто-то вложил их мне в голову. Кресло – язык… Я провёл влажным пальцем по подлокотнику. А что же тогда глотка? Я оглянулся. Прямо над головой висела репродукция с мрачным морским пейзажем, написанным в типичной манере Айвазовского. Корабль, вставший на дыбы и бьющий пенными копытами по воздуху, похож на почерневший от ушиба, отмирающий ноготь; стихия творила с его пассажирами невиданные вещи. Мне почудились скрюченные человеческие фигурки в пучине волн, там, где не было уже никакой надежды спастись. Фигурки покорившихся судьбе. И впрямь похоже на глотку. На ладонях, которыми я касался обивки кресла, кожа сморщилась, будто покрытая соляной коркой.
Я встал, двигаясь как сломанный механизм, и пошёл дальше бродить по квартире.
Тот парень, кстати, должен разлететься на двадцать четыре кусочка – это не считая глаз, которые хоть и могут номинально считаться частями тела, всё-таки слишком малы, чтобы мои герои их учли…
3.
Юра позволил Паше уйти. Он глотал мокрый воздух как вату. На миг померещилось, что глаза мальчугана стали серыми глазами жены: в тот момент, когда, казалось, она сейчас раскроется перед ним, как фисташка, и подарит самую восхитительную на свете тайну. Но мальчуган сказал: «Проник в голову кого-то родного вам, у кого дверь никогда не запирается». Нет, нет. Он вряд ли имел ввиду Алёну. Она прячется от него за семью замками – так, что Юрию иногда хотелось схватить топор и прорубить себе окно, как ополоумевший Джек из «Сияния» Стэнли Кубрика. Он ведь тоже обожал свою семью и хотел ей только добра… А Пашка, наверное, просто решил над ним потешиться. Ведь известно же, что люди, убитые горем, не способны отвечать за себя. Зачем же я его тогда отпустил? – холодея, спросил себя Юра, но не нашёл ответа. Тогда он вернулся мыслями к Паше, живо представляя, как тот, раздавленный вопросами, на которые нет ответа, идёт через дождь. Какие ещё открытые двери? Всё, что у него, Юрия, есть – это дно глубокой ямы, куда он свалился, беспечно идя тропкой собственной жизни. Только эти коряги, торчащие из стен, да кусочек неба над головой. Небо всё время одинаковое, что со дна колодца, что над поверхностью земли, и даже если долго-долго лезть наверх, не приблизится ни на шаг.
Такие вот дела.
Смог бы он объяснить это детям? Недавно он преподал им неплохой урок, открыл глаза на некоторые стороны жизни, до осознания которых многие добрались бы совсем не скоро (а иные не добрались бы вовсе). Но, пожалуй, стоит оставить отдельные карты не раскрытыми. Пиковый туз, зловещее предзнаменование… жизнь ребёнка и без того не легка. Не так, конечно, нелегка, как жизнь взрослого, но это лишний повод оставить детям чуть больше этого беззаботного времени.
Более или менее беззаботного.
Только тут Хорь понял, что его зовут. Пошевелившись, он осознал также, что промок насквозь.
Все, кто смотрел из окон, глазел из-под козырька крыльца, теперь тоже были под дождём. Запыхавшись, они окружили его и тянули руки, хотя Хорь не чувствовал ни единого прикосновения. Перед внутренним взором всё ещё стояли серые глаза, вокруг которых, кажется, вот-вот проступит родное лицо.
– Юрий Федорович! Хорь! – даже Василина Васильевна утирала слёзы. – Где же Паша?
– Ушёл.
– Как ушёл? Как же вы его отпустили?
Юрий ощупал языком дальние уголки пересохшего рта.
– Сбежал от меня, – выдавил он.
Вертевшуюся на языке фразу: «Туда ему и дорога, этот парень как хренова гадалка», – он благоразумно проглотил. Мальчик будто залез на ящики и коробки и смотрит через забор на будущее и настоящее разом. С таким лучше не иметь дела вовсе. Доведёт до греха и исчезнет – поминай, как звали.
Василина Васильевна побледнела.
– Какой кошмар! Где же нам его теперь искать?
– Он вернётся, – поражаясь своей уверенности, сказал Юра. – Обязательно вернётся, как только почувствует себя лучше.
Но он не вернулся. Спустя полторы недели тело паренька выплыло в Бумажном канале, в котором к тому времени стало на три с половиной литра жидкости больше. У него было перерезано горло, и утки, что уже несколько дней сидели на берегу, опасаясь заходить в воду (такому их поведению работники Екатерининского парка не видели объяснения), провожали его похоронным кряканьем. Если бы Юра знал об этом, он бы сделал для себя вывод: у людей, которые видят сквозь стены, самые большие шансы сломать себе нос, в эту самую стену врезавшись. Они могут свалиться с лестницы, упасть с балкона, и даже в полёте с восьмого этажа будут отвергать чужую помощь. Потому что знают, насколько хрупки человеческие жизни.
Но к тому времени Юрий Хорь был за сотни километров отсюда.
– Мне нужно домой, – сказал Юра, стряхнув со своего запястья руку Юлии Сергеевны. Проводил ничего не выражающим взглядом широкую спину Олега, который перелез через забор и, никого там не обнаружив, махнул остальным, чтобы помогли прочесать окрестности.
– Вы меня расстраиваете, – сказала Василина Васильевна. – Производили впечатление хорошего парламентёра, и вот тебе на… Я редко ошибаюсь в людях, но когда такое случается, знаете, это втройне неприятно.
Полное лицо завуча медленно каменело. Вкупе с покрасневшей шеей, сделавшейся необычно дряблой, с резко обозначившейся над верхней губой полоской усов, оно выглядело как карандашный чертёж, на который поплескали водой.
Юру кольнула злость. Он сказал громче, чем хотел:
– По крайней мере я не стал шарахаться от него как от прокажённого.
Учителя переглянулись. Рядом отиралось несколько старшеклассников, достаточно убедительно совмещающих на лицах скорбь с оживлённым любопытством и даже радостью по случаю задержки занятий. Они переглянулись тоже.
– И тем не менее, – сказала Василина Васильевна, ладонью защищая глаза от крупных капель. Она раздулась, как сердитая жаба. – Вы обязаны были его задержать. Сопроводить до дома. Куда, по-вашему, бедный мальчик отправится теперь?
– У него есть ключи? – спросил кто-то.
– Конечно, – ответила Юлия Сергеевна, дрожащей рукой держа над Юрой и Василиной Васильевной зонт и, кажется, очень переживая насчёт того, что не может простереть чёрный брезент над всеми нуждающимися. – Мальчишка ведь совсем взрослый.
– Хорь, пойдёте с Юлечкой к нему домой, – решила Василина Васильевна. – Василеостровская, десять.
Юрий знал, что шансы обнаружить Пашку в собственной квартире примерно равны шансам найти в учительском портфеле бутылку тридцатилетнего Ай-Петри. Он отвернулся.
– Вот-вот случится беда. Мне позвонили из дома, и… в общем, я всё равно не смог бы сопровождать мальчика.
И никто не сможет: Юру не покидала странная уверенность, что Паша, просочившись сквозь ограду, просто-напросто перестал существовать. Стал крупицей тумана, каплей в водной взвеси, одной из миллиардов себе подобных. Подумал он и о том, что если каждая из оседающих на листьях хилого вяза у школьной ограды капель – чья-то слеза, этот мир должен сгореть в адском пламени. А потом, не оглядываясь и ни с кем не прощаясь, оставив за собой потерявшую дар речи Василину Васильевну, и Юлечку, дрожащую как травинка, и Олега, шарящего по кустам и орущего дурным голосом: «Эй! Эй!», поспешил домой.
Блог на livejournal.com. 15 апреля, 16:10. Пятно под ковром и прочие прелести.
…Ощущение, что вскрыл нарыв.
Сегодня двигал мебель – сам не знаю для чего. Наверное, чтобы удостовериться, что стены за шкафом – действительно стены. Что здесь нет скрытых камер. Ну и, может, чтобы найти какое-нибудь чтиво, завалившееся за мебель. Так получилось, что на полке остались лишь рассказы Шукшина, которые я перечитывал не один раз – всё остальное я отнёс на книжный развал, заручившись благословением старика Матвея брать всё, что захочу, да так ничего себе в тот день не присмотрел.









