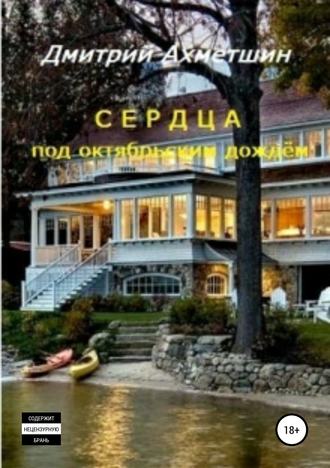
Полная версия
Сердца под октябрьским дождём
я утаил большую часть правды о той ночи, когда всё началось. Она была ужасной. Чем больше я думаю, тем больше мелочей припоминаю. Удивительно, как близко мы иногда в повседневной жизни приближаемся к порогу неизведанного. А там, вместо того чтобы испытывать трепет и обильно потеть, зеваем и беспардонно гремим кофемолкой, не подозревая, что под её ножи может затянуть краешек ТКАНИ МИРОЗДАНИЯ. Эй, кажется, я заговорил как горе-писака… простите меня за это. Никогда ничего не писал. Всё это так же вынуждено, как и необходимость думать вместо того, чтобы смотреть телек (которого, кстати, у меня нет) и счищать со стен дерьмо. Знание, что я переступил этот порог 12 апреля 2013 года, с 10:00 до 10:20, заставило меня сесть на стул, взять ментальную палку и поднять со дна собственной памяти весь этот ил.
Если у меня когда-нибудь найдутся читатели, было бы интересно узнать: а вы, если вдруг нужно будет вспомнить позапрошлое утро вплоть до минут, нет, до секунд и мгновений, справитесь? Сомневаюсь.
Для моего насквозь продымленного разума это была почти непосильная задача. Я просидел в ступоре почти десять минут, прежде чем догадался взять карандаш и бумагу. Читал где-то, что в одной из восточных стран был интересный обычай. Если нужно было что-то вспомнить (это непременно должно быть что-то, что человек прежде считал малозначительным и неважным), жители её обращались к памяти песка. Не то шумеры, не то египтяне… верили, что песок можно отнести к изначальным структурам, кубикам, из которых формируются любые природные и рукотворные формации. Песок запоминает всё, что вокруг происходит, он как равнодушное неподвижное море. Любой процесс и объект рано или поздно станет песком, песок впитает в себя любые эмоции, и даже армии сгинут там, среди барханов…
Ближе к сути.
Человек, который хочет что-то вспомнить, обращается к песку. Он берёт палку и начинает писать – точнее, рисовать на песке каракули. Он не смотрит на то, что рисует, но при должном желании, при правильном расположении звёзд и удаче эти каракули становятся ответом. Песок, сиречь, сама вечность начинает диктовать ответы. Вы поняли, да?
У меня под рукой нет песка. Но что есть бумага? Дерево, дерево есть жизнь, жизнь происходит из земли, а земля, из которой ушла вся влага, есть не более чем песок. Вот так я посреди ночи стал древним шумером и так же начал с каракуль.
Итак, что произошло?
Песок начал мне помогать!
Я вспомнил. Закрывая за собой дверь, я слышал из парадной урчание. Желудок, переваривающий сам себя, и то звучит музыкальнее. Не скажу, что не слышал этого звука раньше – возможно, слышал. Обычные подъездные звуки, маленькие тайны, которые займут разве что ребёнка. Я не придал ему значения. Тишина в квартире была слишком уж сонной, будто сформировалась под лежащим неподвижно не одно десятилетие камнем. Вечером, перед уходом на работу, я оставил на столе чуть начатый кофе – вбухал туда полбанки сливок и забыл. Я отхлебнул его, чего никогда не делал ранее. Терпеть не могу остывший кофе, но сливки же! Сливки… Чипса сидела в своей клетке, а не на любимом месте на двери. Она возвращается в клетку настолько редко, что одно время я подумывал её продать. Электронные часы показывали 10:07, а примерно через два десятка секунд (за это время я успел подумать в очередной раз, как ненавижу свою работу) – 10:11! Любая из этих мелочей может быть ответом.
Ответом, который я всё равно не пойму ввиду языкового барьера. Всё равно, что показывать дорожные знаки маленькому чернявому папуасу. Что он сможет по ним прочесть?
Не то чтобы я видел на листке бумаги обшарпанные ступеньки парадной, коробку со сливками, часы и темень… хотя нет, темень я как раз видел, жирный клубок, путаницу, в которую превратился грифель моего карандаша, стелясь по бумаге.
Я по-прежнему не могу выбраться. Телефон молчит, стёкла… стёкла окон дрожат от ударов, но не поддаются. Конечно же, по ту сторону меня никто не видит и не слышит. Я РАСКОЛОТИЛ О СТЁКЛА ДВА ЧЁРТОВЫХ СТУЛА И НЕ ОСТАВИЛ ДАЖЕ ГРЁБАНОЙ ТРЕЩИНКИ!
Обломки теперь повсюду. Пальцы кровят и все в занозах. Клянусь, я орал как ненормальный, и если б под окнами остановилась машина с санитарами, я бы сдался им не раздумывая.
Просто хочу знать чуть больше. И я хочу свою жизнь обратно…
Глава 2. Издержки профессии.
1.
Хорь решил отступить, зная, что это увлечение – одно из многих увлечений жены, на которые у него не было билета – рано или поздно пройдёт. Это как хорошая литература… от дрянного писателя – что за ирония! – в том смысле, что, несмотря на дрянной стиль, в неё погружаешься и позволяешь вести за собой. Да и язык после нескольких первых страниц стал ровнее. «Если этот парень действительно в безвыходной ситуации, – подумал Юра, – возможно, он нашёл время сесть, успокоить сердце, хлопнуть стаканчик и всё хорошенько обдумать». Оставалось надеяться, что у него завалялась там бутылочка чего-нибудь горячительного. Если твоя реальность пустилась в неконтролируемый галоп, без волшебного снадобья не разберёшься.
Юра решил, что если так, он вполне способен найти в своём сердце капельку сочувствия. Это привычно и понятно, сочувствие и взаимопонимание от одного пьющего человека к другому.
Наступила череда родительских собраний, где каждый считал своим долгом подойти и заявить: «Мой ребёнок – гений!», либо же – «Мой ребёнок не гений, но…». И та и другая фраза подразумевала необходимость компромисса, который Юрий предлагал как можно более деликатно. Каждый год – одно и то же, каждый день – как кубик Лего, такой знакомый, такой родной, и ты точно знаешь, какой стороной его пристроить в получающуюся конструкцию. Иногда Юрию казалось, что вместо того чтобы добавить ещё один кирпичик к своей монументальной башне, он должен был добавить кирпичик в себя. Что, несмотря на возраст, он всё ещё далёк от идеализированного образа полноценного человека, что жизнь, настоящая жизнь, вместо того чтобы идти протоптанной дорожкой, пробирается лесом, как отряд партизан. Умом он понимал, что такие вопросы задаёт себе львиная часть населения планеты, но такова уж человеческая природа – мечтать об авантюрах, сунув ноги в таз с горячей водой.
Когда становилось совсем невыносимо, он делал себе авантюрные инъекции. В медицинском шкафчике у него были ампулы и с густой, как кровь, чёрной жидкостью, и с прозрачным, резко пахнущим экстрактом кактуса, и приятным лёгким лекарством с шоколадным ароматом… А также почти каждый вечер Юра возвращался домой, звеня бутылками пива в рюкзаке. Он подолгу не пьянел, да и Алёну, похоже, не слишком беспокоила Юрина страсть к спиртному. Может, ей просто всё равно? Думая об этом, Юра чувствовал, что его начинает разбирать смех. Хотелось сделать что-то совсем уж неуместное: прыгнуть на тарзанке с балкона, пойти на улицу и громко, зловеще декламировать стихи, не из школьной программы, а любимого Эдгара Алана По. Такой поступок – Юра был в этом уверен – она бы оценила… И точно так же он был уверен, что никогда не будет на него способен.
Заняв детей какой-нибудь контрольной (десятиклассников сложно, встретив в тёмном переулке, принять за детей, но Юра предпочитал их так про себя называть – чтобы выстроить границу между ними и собой, потому как разница в возрасте была не такая уж и существенная), Хорь прятался за журналом или книгой в мягкой обложке. Он преподавал социологию, литературу, основы экономики, иногда даже русский и историю. Многозадачность в его среде была не то что необходима для молодых учителей, но она ценилась, как основа выживания. Старшие коллеги, которых, конечно, было подавляющее большинство, называли таких как он сколопендрами. Бог знает, откуда пошло это прозвище! Наверное, от какого-то не в меру остроумного учителя биологии.
Биологию Юрий не любил. Она казалась ему излишне натуралистичной, а натуралистичность заставляла голову кружиться. «Это всё твоя душа, – говорила жена. – Невидимая сущность. Она, знаешь ли, на дух не переносит, когда изучают тела, забывая о ней». Юра не верил в существование души. Он был всесторонне развитым и насквозь приземлённым. Он подозревал, что когда-то это разочаровывало Алёну, но потом она смирилась и смогла принять его таким, каков он есть. Или просто сказала себе, что она выше мышиной возни с разводом и разделом имущества. Даже зная, что он при любом раскладе будет вести себя как джентльмен. Это ли не счастье? – думал Юрий. Много ли людей на свете, которые пришли с жизнью к хрупкому соглашению, ничего от неё не ожидая и расточая себя по пустякам?
2.
Вне школы старшеклассники называли его на «ты», и… ну не сказать, чтобы так уж сильно любили. Всё-таки крепкая связь между учителем и его подопечными осталась где-то во времени пионерии и портеров Ленина над классной доской, но по крайней мере Юрий, проявив немного фантазии, мог удерживать их внимание в течение полутора часов.
– Эй, дядь Юра, – однажды спросил его Фёдор Сыромятников из десятого «Г». – Как получилось, что вы стали учителем? Вы не похожи на всех этих.
Под «всеми этими», конечно, подразумевались его коллеги, динозавры школьной науки, знающие свой предмет на четыре, потому что только господь Бог знает его на пять (а знали бы они, как дети ненавидят эту фразу!)
– Сначала мы закончим с причинами чапанного восстания, – сказал Юрий, перевернув страницу учебника и прижав уголок книги пальцем. Фёдор, рыжий парень, всё лицо которого усыпано веснушками издали похожими на прыщи или укусы насекомых, сидел за второй партой у окна и жевал жвачку. Кто-то на «камчатке» вынул из ушей наушники, и в наступившей тишине стали слышны басовые ноты хип-хопа. Класс выжидающе молчал. Конечно, они знали, что он не оставит без внимания вопрос.
– На вас же целая прорва предметов, – продолжал Фёдор. – Вы, типа, кайф ловите, оттого что знаете, что такое монополии или можете перечислить всех членов политбюро сталинских времён? А дома что делаете? Книжки всякие читаете?
– Вами же дыры затыкают, – раздражённо сказал кто-то из девушек, конечно, с задней парты. – Как это можно терпеть? Вы хороший учитель, но очень уж бесхарактерный.
Юрий поискал глазами автора последней реплики. Не нашёл. А если бы и нашёл, то вряд ли сообразил бы что сказать. Значит ли это что девочка права? По-своему, возможно, да, и изъяны в нынешней системе образования те, для кого она предназначена, без сомнения, видят лучше всего.
Вздохнув, он сказал:
– Я никогда не думал, что буду работать учителем.
По рядам пробежал шепоток.
– А кем?
– А кто хочет?
– Унылое занятие – возиться с такими как мы.
Тот же голос с задней парты произнёс:
– Вы отличный учитель! Вы разве не можете попросить для себя какой-нибудь класс? Чтобы быть классным руководителем и вести один предмет.
– Я никогда не хотел быть учителем, – повторил Юрий. Второй вопрос он умышленно проигнорировал. Положительный ответ на него будет самым что ни на есть лицемерием, а отрицательно отвечать не хотелось. – Просто любил читать книги. С самого детства. Не знал, зачем мне всё это было надо, да и сейчас не знаю.
Юрий встал, загородив густо исписанную датами доску, оглядел своих подопечных, остро в этот момент осознавая, что через восемнадцать минут они выйдут за дверь, выбросив из головы почти всё что он говорил, как обёртку от жевательной конфеты. Так происходит всегда. Так почему сейчас не поговорить по душам? Почему не сказать, что он думает?
Выровняв дыхание, он продолжил.
– Природа наделила меня проницательностью. Звучит, может, излишне претенциозно, но я и в самом деле начал подмечать некоторые очевидные не для всех вещи ещё с малых ногтей. Неспособный найти им объяснение, я придумывал для себя истории. Разные. Например, что все люди, которые встают с утра, чтобы с кислой миной поехать на работу, – Юра изобразил кислую мину, и по классу прокатились смешки, – на самом деле роботы. Пустые оболочки, в которых инопланетяне когда-то изучали Землю. Как ходячая одежда. А потом они улетели и оставили этих андроидов функционировать. Мне казалось – ткни их иголкой, и они сдуются как воздушные шары. Я сколотил банду и швырялся желудями в трамваи и троллейбусы, пока один раз меня не поймали и не вправили мозги. С тех пор я стал замечать за собой приступы меланхолии. Я стал думать – возможно, чрезмерно много.
– Меланхолия – это болезнь, – сказала Маша Селиверстова, белокурая шустрая девчонка, похожая на стрижа. – По телеку говорили.
Юрий ухмыльнулся. Он видел по выражению лиц, что чего-чего, а такой бескомпромиссной, злой ухмылки от него не ожидали.
– Этот вирус, девочка, не подвергается стандартной классификации. Можете спросить своего биолога – кто это, Маргарита Валентиновна? – но я уверен, что она ничего не скажет. Я выводил на полях школьных тетрадей свою теорему и раз за разом, глядя на людей, доказывал её для себя. Две трети из вас не найдёт своего места в жизни. Так же, как я. Да, я сам принадлежу к тому племени, в представителей которого раньше швырял камнями. Я как секретный агент внедрился в него и увидел, что люди равнодушием ко всему окружающему сами убили внутри себя всякую жизнь. Знаете, что меня отличало от всех остальных? Лишь одна маленькая деталь: став винтиком этой машины, я не утратил возможности рассуждать… правда, поделать всё равно ничего не мог.
Наступила тишина – Юрий потирал запястья. Они болели, будто он только что лично вколотил десяток гвоздей в крышку чьего-нибудь гроба. Дети переглядывались, как игроки в мафию, пытающиеся расколоть друг друга. В этот момент – думал позже Хорь – они разделились на два фронта, на две нации, исконно враждебные, не открыто, но исподволь, исподтишка.
– И что вы тогда стали делать? – тихонько, почти плача спросил женский голос. Юре померещилось, что он донёсся из-за окна, но за окном никого, только печально качающие головами тополя, уже готовые примерить коричневый наряд. Учебный год ещё только начался, на улице стояла прекрасная для сентября погода (да что уж там – ей бы позавидовал сам июнь), но атмосфера в классе была – словно кто-то открыл окно в февраль.
– Я расширял свои знания довольно бесконтрольно, надеясь, что однажды они пригодятся. Без должного энтузиазма, как вы понимаете, без огонька. Просто использовал врождённые свои наклонности. Пообещал, что как только выдастся возможность заполнить себя чем-нибудь, я сразу это сделаю. А пока – вот он я, как есть.
Юрий швырнул на стол ручку и развёл руками, словно пытаясь таким образом облечь в слова всё недосказанное.
– Ну вы даёте, дядь Юр, – сказал Фёдор. Он старался держаться непринуждённо, но Юрий видел, что задел даже его: нижняя губа покраснела, что являлось признаком сильнейшего волнения. – Вам же уже за тридцатник! Это что, значит, вы что-то проморгали?
– Я не мог ничего проморгать, – ответил Юра нахмурившись. – Каждый раз, когда мне выпадал шанс изменить свою жизнь, я тщательно взвешивал все за и против.
Он умолчал, что каждый раз этот шанс был как монетка на дне грязного, тухлого водоёма. Какой-то мальчик – Мальчик-Который-Только-Начал-Всё-Осознавать – сказал: «И оставался там, где ты есть, не торопясь ничего изменить», но Юрий ничего ему не ответил.
Тут ему в голову пришёл ответ на один из первых вопросов, заданный неприятным женским голосом с задней парты, такой ясный и кристально-чистый, что Юра просто не мог его не озвучить. Улыбнувшись, он сказал:
– Именно поэтому я и не беру себе класс. Например, вас, голубчиков… хоть вы очень хорошие, правда. Один из лучших классов, который мне довелось учить. Однажды может случиться что-то, что заставит меня исчезнуть. Уволиться и переехать на край света. Я всегда в подвешенном состоянии, всё ещё смотрю по сторонам. С жадностью смотрю. И я боюсь вас подвести.
Он поколебался, но всё же решил говорить до конца:
– Кроме того, мне больно смотреть, как мои теоремы снова и снова доказываются вами. Как вы чернеете, обугливаетесь изнутри. У вас у всех сейчас такие красивые глаза… осмысленные. Будто вас разбудили посреди ночи. Ну, кроме Ерофеева.
По рядам пробежал смешок, в течение десяти секунд Юрий имел счастье созерцать детские затылки. На предпоследней парте у стены сидел Ваня Ерофеев. Прикрывая рукой одну из своих пухлых тетрадей, он что-то рисовал. Все знали, что в этих тетрадях – одинаковых, как безобразные близнецы, с толстыми синими корками – идут процессы далёкие от учебных. В отличие от других учителей Юра никогда не отбирал у паренька эти сакральные тетрадки, но много раз, словно невзначай проходя мимо, замедлял шаг и даже задерживал дыхание, чтобы не дай бог не оборвать пульсирующие нити созидательного процесса.
– Что вы все на меня уставились? – спросил он, готовясь защищаться. Ваня был полноват, с длинными сальными волосами и чёлкой, похожей на дымный след подбитого самолёта. Шею его покрывали красные угревые пятна.
– Слыш, странный, – сказал Фёдор, доставляя языком комок жвачки из одного угла пасти в другой. – Дядь Юра нам тут за жизнь рассказывает. Не слушать учителя, вообще-то, невежливо.
– Ему – можно, – сказал Юра чуть более резко, чем следовало. Почувствовав, что снова стал центром внимания, он сказал: – Пускай парень занимается своим делом. Если узнаю, что кто-то его достаёт, будет иметь дело со мной.
– Он как будто не с земли, – буркнул Фёдор.
– Такой, каким должен быть, – отрезал Хорь. – То, что я сейчас вам говорил, к нему не относится. Пока не относится, и, надеюсь, не будет.
Он кивнул мальчишке, позволяя ему вернуться к прерванному делу. Наблюдая реакцию класса, перевёл дух. Кажется, поняли. Большинство из них. Наивно было полагать, что теперь они будут смотреть на того, в чью спину стреляли бумажными шариками, другими глазами, но хотелось думать, что первый шаг к этому сделан.
– Если вопросов больше нет, – Юра сверился с часами, – я отпущу вас пораньше. У вас же больше сегодня нет уроков? Пускай ту депрессивную речь, что я перед вами толкнул, разбавят лишние минуты на свободе…
Его перебил возмущённый голос и взметнувшаяся рука:
– Вы же женаты! Как вам не стыдно? Разве вы не счастливы? Разве вы не любите друг друга?
Юрий, к своему стыду, не помнил, как зовут девушку. Помнил только фамилию – Морковина. Она, очевидно, из тех, кто полагает, что после дождя и солнце сияет ярче.
– Если вдруг вам приспичит «исчезнуть»… тогда что? – в голосе появились сдавленные нотки. – Просто бросите её?
На неё зашикали. Кто-то засмеялся. Почти у всех были перед глазами примеры в лице родителей. Семьи, в которых далеко не всё так гладко, как хотелось бы. А она – просто наивная пигалица. Тем не менее, Юра ответил:
– Любовь – погоня друг за другом, за увлечением и совместным времяпрепровождением. Бесконечная игра в салки. И кто-то из двоих неминуемо устанет от неё быстрее другого.
Его голос заглушил звонок. Все вздрогнули, будто не слышали этот звук миллион раз, не ждали его, или, напротив, ждали, а вместо привычной трели раздался ужасающий грохот. Никто не пошевелился, глотки портфелей не распахнулись, а руки, против обыкновения, не потянулись, чтобы собрать со столов вещи.
Юрий подошёл к двери, открыл, позволив гулу школьного коридора пробудить своих подопечных. Они поднимали головы и вслушивались, словно могли различить там голоса товарищей из параллельных классов.
– До встречи на обществознании в четверг, – сказал он. – И, несмотря на то, что предмет близок к теме, которую мы сегодня затрагивали, мы больше никогда не вернёмся к этому разговору. Всё, проваливайте!
Выпустив последнего ученика – проходя мимо, они опускали глаза – и закрыв дверь, Хорь без сил рухнул в кресло. Что вообще заставило его поднять эту тему? Детей винить нельзя, они, следуя своей сущности, просто задавали вопросы. Ребятам не помешал бы пройти курс пути к успеху. А он вместо этого преподал им урок неудач.
На самом ли деле Юра верил в то, что сказал этим детям. Или просто, поймав редкую птицу-красноречие, не сумел удержаться от того, чтобы не похвастаться? Он никогда не умел говорить о серьёзных вещах и ни с кем о них не говорил. Тем более с самыми близкими людьми – с женой и отцом. Особенно с ними. Юра не был на все сто уверен, что выводы его правильны. Он боялся услышать, что дела в мире обстоят ровно наоборот, что он всю свою жизнь гонялся за призраками и крутил ручку настройки в надежде поймать несуществующую радиостанцию. Когда жена отвлекалась от своих многочисленных увлечений и находила время для него (на самом деле, такого же увлечения; Юра чувствовал себя рядом с ней персонажем второго плана в комедийном спектакле), её взгляд вопрошал: «Что с тобой не так, приятель?» Он не отвечал – только глубже забирался под свой камень, уродливый обитатель глубин, осьминог с мышиными глазами. То, что он сумел раскрыть какую-то часть своей сущности перед классом, малознакомыми людьми, да ещё детьми, чуду подобно. Над этим стоит задуматься.
Идя в тот день с работы, погружая ноги в лужи и чувствуя как ботинки разбухают, будто хлебный мякиш, он думал, что не мешало бы нынче же вечером обсудить всё это с самим собой, в свойственной ему манере домашнего алкоголика.
Наивной пигалице из десятого «Г» было бы не очень отрадно узнать, что жена не торопится принимать участие в его медитации или как-то ей противодействовать.
Блог на livejournal.com. 14 апреля, 07:20. А что, собственно, это была за жизнь?
…Да уж, семь утра после бессонной ночи – самое время для экскурсов в прошлое.
Никогда не думал, что так рано начну писать автобиографию. Да и не уверен, что она окажется достойной хотя бы разворота в журнале «Story». Просто пытаюсь понять, что за цена у этой пыльной монеты. Стою ли я того, чтобы оказаться законсервированным между четырьмя стенами?
Вряд ли.
Переехал сюда почти шесть лет назад. Тогда меня снедало единственное желание – оказаться как можно дальше от дома. Смерть моих родителей разделяли полтора года, а расстояние между городом, где я родился и вырос, городом, где я, особо не разбираясь в рыночных ценах на двушки, сплавил семейное гнёздышко, и городом, куда я переехал, соблазнившись фотографиями в рекламном проспекте, составляло добрую тысячу километров.
Никогда не думал, что когда-нибудь стану путешественником. Я просто бежал. Хотел начать всё заново.
Те рекламные проспекты нашлись в мусорной корзине тогдашнего моего коллеги по работе… а, кого я обманываю! Я просто выносил мусор – одна из многих моих обязанностей, как ночного уборщика. Знали бы вы, что иногда выкидывают порядочные люди! Мне приходилось за них краснеть! Одно время я сердился, но потом выкурил сигаретку и понял, что люди, разжимая руку и отправляя эти вещи в короткий полёт до мусорной корзины, выкидывают их и из собственной головы. Все эти чеки, грязные салфетки, рекламные брошюры, фотографии, не предназначенные для чужих глаз, клочки, из которых складываются письма с нелицеприятным содержимым.
На блеклых фотографиях Кунгельв, в советское время Маркс, казался декорациями к старому фильму. Рекламные брошюрки не питали особых надежд в собственной эффективности. Должно быть, Иван, старший менеджер по продажам («К вашим услугам» было написано на его визитках) прихватил эти брошюры в числе прочего мусора из рук промоутера или на вокзале, да так, не прочитав, и бросил в урну.
Меня же они таинственным образом привлекли. Мама тогда ещё была жива, хоть и болела, поэтому о переезде я даже не помышлял. Но всё же… всё же. От туманного озера с одинокими рыбацкими лодками я не мог отвести глаз. Рамки фотографий пропустили меня под собой, словно гостеприимно распахнутые ворота. Там хвойный лес, что струйками дыма просачивается сквозь город и собирается в плотную тучу за его окраиной, старинная часовая башня – уцелевшие цифры на её циферблате можно сосчитать по пальцам одной руки, – и дом, в котором я сейчас живу. Слова дежурные и старомодные, но когда я приехал сюда в первый раз, я понял, что всё это на самом деле имеет место быть в Марксе. Это и правда «рай для тех, кто ищет отдыха» и «самое большое скопление памятников архитектуры на площади в двадцать квадратных километров».
Эти брошюрки валялись у меня на столе до двадцать восьмого января две тысячи седьмого года, когда не стало мамы. Глядя на них после всего произошедшего, я подумал, что это, наверное, идеальное место, чтобы обо всём подумать. Я оборвал все возможные связи в родном городе, распродал имущество и с парой чемоданов и старым отцовским рюкзаком сел на поезд до Питера – чтобы пересесть оттуда на выборгский экспресс, а потом, не покидая даже здания вокзала, ещё дальше.
Может ли быть, что нынешняя ситуация является прямым развитием туманных образов и мыслей, что преследовали меня тогда? Или ещё раньше – в детстве? Невропатия… диагноз звучал холодно, как забытый в морозильнике нож, и он успешно справился с отсечением от меня некоей части. Не скажу, что она была важной, ведь последующие тридцать лет я мог без неё обходиться. В школе меня звали колченогим табуретом, или просто колченожкой. Не знаю доподлинно, откуда взялось это прозвище (точнее, уже не помню), но сейчас я думаю, что оно очень мне подходило. Колченожка всю жизнь прожил с родителями, которых ненавидел лютой ненавистью. Колченожка работает только в ночные смены, в его послужном списке должность охранника на автопарковке (хотя Колченожка вряд ли смог бы задержать и шестилетнего нарушителя), да уборщика в суперсовременном офисном центре – сомнительный карьерный рост, зато симпатичный синий комбинезон. Колченожка никогда не знал женщины – просто потому, что какие-то винтики в голове работали не так, как должны.









