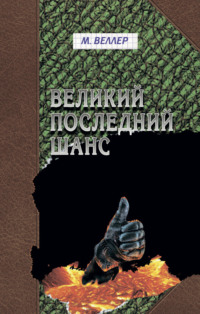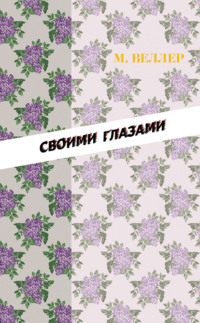Полная версия
Перпендикуляр
Дело в том, что в России в XIX веке уже сформировались как бы два народа: высший класс – дворянство, которые говорили более по-французски, чем по-русски, которые одевались так, как одеваются в Европе, которые читали европейскую литературу. И большая часть народа, – которая иначе одевалась, иначе питалась, иначе себя вела, имела иные представления о правилах хорошего тона и о хамстве, – а кроме того, говорила иным языком.
И если Лермонтов был, пожалуй, первым в русской литературе, кто стал писать по-французски на русском языке, потому что в «Герое нашего времени» сплошь и рядом французская постановка фразы, французская конструкция, французский синтаксис и французская интонация. А поскольку у Лермонтова было очень-очень хорошо со словесным и музыкальным слухом, то проза у него – совершенно замечательная. Но после Лермонтова никто уже в XIX веке так в России писать не мог.
То вот Гоголь писал совсем другим, таким вот простым языком, который не имел никакого отношения ни к чему французскому, зато имел некоторое отношение к тяжеловесной немецкой грамматике, внедренной по указу государя императора Петра Великого Алексеевича в школах, даже в начальных училищах преподавали эти основы, и это был немного германизированный по конструкциям, тяжеловесный и неловкий просторечный русский язык. Тяжеловатый язык, который в общем и целом канул в Лету, потому что в культурную традицию вошел все-таки верхний, культурный, интеллигентский, дворянский отфранцузский язык.
Вот поэтому, я думаю, читать Гоголя очень тяжело, и юмор – был в нем? – могут почувствовать совсем, совсем не все. Так что, если вам будет совсем не смешно над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» или над чем-либо еще, не надо огорчаться. А если кто-то из вас прочтет, что заходит молодой Гоголь в типографию, а там наборщики хохочут, просто работать не могут – это они читают «Вечера на хуторе близ Диканьки», – ну так это он сам распространял такой слух, пытаясь кокетничать в том роде, что, видимо, надо мной только простолюдины и смеются. Ну как-то образованные классы меньше немного смеялись, и не тот язык, понимаете.
Дальше этот язык очень интересно скажется у Островского и Чехова. Но до этого несколько слов о других.
Я не знаю, насколько сейчас среди людей сравнительно молодых известен некогда знаменитый русский советский писатель – Константин Георгиевич Паустовский. Еще в 70-е годы он был весьма знаменит. Можно спорить о том, был ли он действительно писателем большим, но стилистом он был, разумеется, прекрасным, и русскому у Паустовского можно было учиться. Среди многих-многих я тоже пытался учиться чему мог.
Вот у этого Паустовского среди прочих мест, вызывавших с юных лет мои сомнения, было и такое, что. Читает он рукопись какого-то графомана, невесть как она к нему попала. Язык какой-то нехороший, и вообще все там нехорошее, все какое-то такое неживое, такое картонное, бумажное, деревянное… – и вдруг какая-то благоуханная страница, которая словно отцвечивает таким легким сумеречным, сиреневым светом, все такое изящное, благоуханное. Боже, что это?.. Он начинает читать внимательнее – и понимает: это страница из Достоевского, из «Идиота». Вот тут меня заклинило.
Я снял с полки «Идиота», нашел ту страницу, касающуюся несостоявшейся женитьбы на Настасье Филипповне, и стал ее перечитывать – спереди и сзади, с середины, по диагонали: и ничего у меня не было сиреневого, и ничего не благоухало, и ничего не получалось, и совершенно никак не нравилось это мне. Я понял, что я тупой, что мне не дано понимать то, что дано понимать великому писателю и тонкому стилисту Константину Паустовскому.
Потом прошло время, и со временем я стал сомневаться: ну я-то тупой, ладно, но так ли умны все те, которых за умных я имел до сих пор? Я стал смотреть на самого Паустовского… Ну бог с ним, много нас таких, которые только и любят поводы вытирать калоши о коллег. Я стал смотреть на Достоевского. У Достоевского рассказ есть такой, «Случай в Пассаже». Я стал читать рассказ…
Знаете, я много лет писал только рассказы. По принципу: выкидывай все, что можно выкинуть; чем короче – тем лучше; и т. д. Значит, «Случай в Пассаже» – это такой рассказ на 100 страниц. Вообще рассказов в 100 страниц не бывает. Сто страниц – это повесть, а при умении в сто страниц – можно уложить роман. А это на 100 именно рассказ. И материала там только на рассказ. И ничего больше. Э?
И я стал заниматься для себя языком Достоевского и стилистикой Достоевского. Я обнаружил, что написано это чудовищно совершенно. Чудовищно!.. Тем самым просторечным языком, изломанным, антимелодичным, каким-то невкусным, с очень бедным словарным запасом, с неуклюжими повторами, от которых просто делается физически плохо. Короче, это по Хемингуэю: «Я никак не мог понять, как человек может писать так плохо, так безнадежно, так чудовищно плохо, и производить при этом такое сильное впечатление». Стоит еще прибавить, что Хемингуэй читал Достоевского на английском в переводе Констанс Гарнет, а на английском этот перевод был в значительной степени выглажен. Я потом, как мог, проверял, и спрашивал у людей, которые лучше меня чувствуют английский.
Так вот. Достоевский был гениальным психологом. Достоевский был каким-то беспощадным препаратором (от слова «препарировать») человеческой психики. Но не надо требовать от Достоевского, чтобы он был гениальным стилистом. Достоевский, как правило, писал чудовищно торопливо, десятками страниц в сутки, у него опять горел срок договора, у него опять был уже аванс потрачен, очень часто просто проигран, и денег не было. Над ним всю жизнь висела сумма сакральная – 2 тысячи рублей. Ему всегда были нужны 2 тысячи рублей. Это напоминает просто Шуру Балаганова. Вот никогда не 10 тысяч, не 500, а именно 2 тысячи! И когда он лудил при свечах по 40 страниц в сутки, – какая там отделка стиля, ну какая шлифовка, побойтесь Бога… Не надо искать у гениального и беспощадного копателя глубин душ человеческих – Достоевского – шедевров стиля. Ну не надо, понимаете… Так же как в жемчуге не нужно искать, допустим, содержание золотого песка. Ну разные это вещи.
Что же касается самого подхода Достоевского, что касается вот этого среза психологического. Если кто не читал известного когда-то, знаменитого когда-то просто сочинения Вересаева «Живой как жизнь», – то очень полезное чтение. Вересаев очень любил и высоко ставил Толстого, а вот Достоевского просто терпеть не мог. И все время цитировал Толстого, как бы в пику и в противовес Достоевскому. Потому что Вересаев полагал, что Толстой был человек здоровый, а Достоевский – человек больной и неправильный, и весь его подход очень примитивный. На самом деле это банальность, вывернутая наоборот.
Например. У Толстого Долохов с Петей едут в разведку к биваку французов, говоря по-французски: узнать, где они там находятся. Теперь представьте себе, что это описывает Достоевский: когда Долохов, даже сам не понимая своих ощущений, а чувствуя какое-то холодное колотье вдоль хребта, говорит, обмирая внутри: «А не кажется ли вам, господа, что я русский шпион?» Вот это Достоевский, пишет Вересаев. Или: человек шел по пустыне и встретил льва. Побледнел и убежал. Это банальность. Человек шел по пустыне и встретил льва. Покраснел и остался на месте. Это Достоевский.
Таким образом. Если вы в сочинениях Достоевского будете искать банальность, вывернутую наоборот, которая дополняет психологические изыскания, – и не будете искать у Достоевского шедевров стиля, – это, может быть, поможет вам получать от него наслаждение, а не испытывать внутреннее раздражение от того, что вы хотите получить одно, знаете, что вы имеете право получить это одно, а его никак не получаете, – а заодно не получаете и другое.
Если говорить об этих двух главных гигантах русской классики – Достоевском и Толстом, – то необходимо упомянуть и еще одну вещь. А именно – необыкновенную, глубоко нормальную и сильную, жизнерадостную витальность Толстого. Но она до поры до времени была такой нормальной, жизнерадостной, а потом именно от избытка энергии он совершенно изводить стал всех своих домашних и близких. Обычно рисуется образ Льва Толстого, естественно, как всемирно знаменитого, мудрого старца с седой бородой, с пронзительным взглядом, в подпоясанной рубахе, которая уже начинает называться «толстовкой». Ну и анекдоты, как он пашет там… Ему докладывают: «Барин, пахать подано». Или, например, пассажиры пассажирского поезда спрашивают: «А вот пашет человек, а вот нам говорили, что здесь сам граф Толстой пашет». Им говорят, что граф выходит пахать к курьерскому поезду, а к пассажирским крестьяне пашут сами.
Вот этот самый Лев Толстой в юности, в молодости был человеком настолько замечательным, что с таким просто, наверное, приятно было дружить. Во-первых, Левушка терпеть не мог учиться. Он был вот такой вот бездельник. Он был физически крепок, он с малолетства заглядывался на девок, он мог дать по морде, и вообще его влекла настоящая, мужская, дворянская, лихая жизнь. И он поступил в свой срок в университет, и в этом университете мало преуспел в учении, зато преуспел в тех самых богатырских забавах. То есть он выпивал, он играл, он ездил к веселым девицам, и в конце концов его стали выгонять прямо после первого курса. Он сказал, что он уйдет сам, тем более он проигрался на бегах, он был заядлый лошадник. И он поступил в юнкера.
В те времена молодому человеку из приличной семьи, хорошего рода, поступить в юнкера – было в этом что-то уже от поздней советской армейской пословицы: «лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор». Вот такой ефрейтор, это в представлении приличного общества, был молодой человек, который пошел в юнкера – вместо того чтобы приносить пользу обществу – в этой ненужной войне на Кавказе: захватническую царскую политику интеллигенция уже тогда не одобряла. Мужланское, тупое занятие. Толстой пошел в юнкера, и отправился на Кавказ, и с удовольствием участвовал в боевой жизни на Кавказе, и был служакой весьма исправным, храбрым, исполнительным, и вообще отлично себя чувствовал.
И когда он уже позднее был артиллерийским офицером в осажденном Севастополе, то отмечалось, что это настоящий кадровый, боевой офицер, который уже чуть не десять лет в армии, которого солдаты слушают, сослуживцы уважают, в зубы въехать нерадивому – это для него недолго, и никто не смеет его поддевать, потому что характером крут и на руку легок и быстр.
А потом были напечатаны «Севастопольские рассказы». И все решили, что, видимо, редактор перепутал, что это, конечно… Левушка, да он родителям письма никогда не написал! И вообще говорил-то не очень… Это, видимо, его брат старший, Николенька. Юноша всегда был интеллигентный, образованный, склонный к литературам и искусствам. Нет! Оказалось, что написал Левушка. (?) Все удивлялись страшно.
Некрасов был в восторге. Некрасов полагал, что это на сегодня просто вершина русской литературы – «Севастопольские рассказы» артиллериста Толстого. Ну и Толстого, после того как Крым все равно пал, оборонять стало нечего, пригласили, естественно, в «Современник».
И вот туда явился – среди этих достаточно интеллигентных, культурных людей, которые любили поговорить о возвышенном и, разумеется, не любили никаких форм физического воздействия, – среди них явился этот боевой офицер. С усами, с бакенбардами, со шпорами на сапогах, которыми он рвал редакционные диваны, валяясь на них, с его грубыми шуточками, с его трубкой, воняющей крепчайшим табаком. Он доводил до слез Тургенева, издеваясь над его, как он выражался, «демократическими ляжками». Толстой был мужчина небольшого роста, но такой коренастый и занозистый, – а Тургенев был рослый, хорошо сложенный, вальяжный… но постоять за себя перед боевым офицером не мог!
Случались замечательные истории типа: Николай Алексеевич Некрасов, как известно, любил играть в карты. И однажды он проиграл эти деньги, которые были предназначены на гонорар Тургеневу, за публикацию, за роман. Ну, бывало, бывало… Тургенев страшно обиделся и учинил Некрасову скандал. Некрасов был оскорблен совершенно и говорил, что Тургенев просто марает его грязными подозрениями. А Некрасов Толстому очень нравился. Толстому нравилось, что Некрасов играет в карты, что Некрасов любит женщин, и вообще что Некрасов нормальный человек. Толстой вызвал Тургенева на дуэль. (Эта история в русской литературе обычно замалчивается, потому что когда один гений вызывает на дуэль другого гения, получается ерунда. Вот понимаете, когда Дантес – Пушкина: негодяй, когда Мартынов – Лермонтова: негодяй! А если бы Толстой убил Тургенева – мы были бы в большом затруднении. Это просто фигня какая-то получается. Это не принято.) Короче, Тургенев от вызова уклонился и быстро уехал за границу. Не ответил за базар. Ему было не до дуэлей, он любил Полину Виардо. Она сосала из него деньги, все доходы от его имения и от его гонораров, он переживал страшно. Толстой говорил, что он бы такую бабу просто вышвырнул в окно, и нечего здесь сопли разводить. Тургенев был скандализован такими заявлениями. Короче, Тургенев быстро уехал за границу, чего Толстой не мог ему забыть всю жизнь, издеваясь покуда можно было.
Вот когда этот самый Толстой начал писать «Войну и мир», он, как бы это выразиться по-простому, в гробу видал простое русское трудовое крестьянство. Он хотел написать книгу о дворянах, об офицерах, о людях своей касты, своего сословия. Потому что он принадлежал к этой касте, она ему нравилась, он этой принадлежностью гордился. А все начавшиеся поползновения – «пойти сходить в народ», ну и как уже в недавнем гениальном фильме Никиты Михалкова «Механическое пианино»: раздарить пейзанам все свои старые костюмы – они будут хороши на покосах в старых фраках барина! – вот эти все поползновения у Толстого вызывали полную неприязнь и гомерический хохот. И вот он начал писать роман о дворянах, а кончил тем, что все-таки стал писать о простом народе.
И перетекание «Войны и мира» из одной книги в другую – вещь интереснейшая! Все, вероятно, знают о том, что Толстой гордился до крайности композицией, построением «Войны и мира». Обращали внимание, конечно, на то, что «Война и мир» начинается с длинного чисто французского текста. Причем текста бессмысленного: вот эта шелуха светской жизни. А кончается философским анализом – настолько глубоким, насколько Толстой вообще мог дать. И на простом, нормальном, без всякой вычурности, с подчеркнутой простотой русском языке.
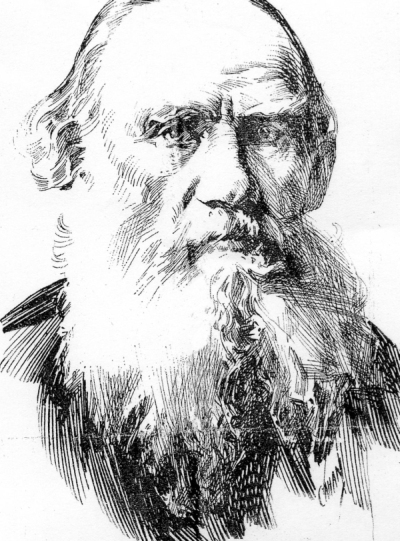
Вот что необходимо представлять себе о Льве Толстом, потому что вы должны видеть живого человека, чтобы понять, что он писал. И когда Лев Толстой в старости пропагандировал целомудрие, воздержание, и пытался учить своих крестьян, что – ну куда же детей столько, если прокормить трудно. Вот родили, допустим, троих-четверых – и хватит. А дальше нужно жить в целомудрии, вот по Христу, понимаете, в чистоте. Ну, крестьяне только вертели пальцем у виска, как бы разводя руками: говоря, что да, конечно. Когда граф сам уже не смог, так он начинает проповедовать, искренне проповедовать вот такое вот целомудрие…
И вот, значит, Лев Толстой, старый, маститый, принимает Горького – молодого и необыкновенно знаменитого. Пьют чай. Заходит разговор о жизни, о любви. И спрашивает Лев Толстой у Горького: «А вы, Алексей Максимович, как насчет дамской части?» Ну, Алексей Максимович слегка смущается, времена, знаете, были те, когда не было принято публично обсуждать анатомические подробности противоположного пола, и т. д. Ну и говорит в таком духе, что он, вот понимаете… А Толстой говорит мечтательно и со вздохом: «А вот я, батенька, в молодости был страшный блядун». Вот нужно это знать, чтобы представлять себе всю жизненную естественность Толстого, которая и переходила в мудрость инстинктивную, без чего Толстой не смог бы никогда написать «Войну и мир».
Ну, потом такие вещи, как «Крейцерова соната» – это было уже несчастье. И именно потому, что Толстой был человек огромной жизненной силы и энергии, огромной энергетической заряженности. Оно конечно же: жизнь-то устаканилась – имение, село, семья, кроткая, добрая, верная, умная, помогающая жена, дети, кругом там бегают бывшие крепостные, свои крестьяне. А тут и денег на жизнь хватает, и слава пришла, и делать больше нечего крупной мятущейся душе. И он начинает терзаться! Потому что ему потребно воротить огромные дела и преодолевать серьезные препятствия.
Терзается он непонятно чем. Это то, о чем он пишет в «Анне Карениной»: что было хорошо, только он прятал от себя ружье, чтобы не застрелиться, и веревку, чтобы не повеситься. Он не застрелился и не повесился, но его ближние поняли, что жизнь с гением не сахар. То есть и жену он изводил – тараканы такого дуста не видали, как Левушка с Софьюшкой иногда обращался. Уж она не виновата была ни в чем. Он же ее со свету сживал и поедом ел… И сам страдал не меньше ее! И в конце концов ушел из дому.
Вопрос: дети, чего ему там не хватало? Ну… человек был, судя по всему, психически не совсем адекватен. Вот его натура требовала препятствий! требовала преодоления! требовала вражды с кем-то… Его натура требовала найти какие-то неправильности и несовершенства в мире! Ну, чем они ближе, тем виднее – и с ними бороться, их ненавидеть, их преодолеть. Так что быть великим писателем иногда очень трудно не только окружающим, но и себе самому.
И здесь Толстой недаром любил Некрасова. Здесь Толстого с Некрасовым кое-что роднит. Понимаете ли, в свое время все советские, то бишь русские, российские школьники терпеть не могли Некрасова. Вот этого певца народных страданий. Слушайте, дети не хотят читать про страдания! Дети хотят читать про приключения, про подвиги, про дружбу, любовь и отвагу! А народные страдания им как-то до фонаря. И вот свой образ жизни дети воспринимают совершенно естественным «Выдь на Волгу – чей стон раздается»? Да не хотят они слышать этих стонов, понимаете. Вот дети устроены так, что они хотят быть счастливы, по природе своей, и не хотят они стонов ничьих.
Поэтому Некрасов вызывает у школьников естественное отторжение. Детям навязывают страдания, которые им чужды. А страдания эти по людям, которых давно уже нету. И вот, значит, дети должны разделять это сочувствие к этим крестьянам, чего они абсолютно не хотят. Они хотят быть счастливы сами.
Вот школьные педагоги в Советском Союзе, в России, это никогда не хотели принимать во внимание. Они полагают, что это развивает гуманизм. А дети говорили: так это он крепостных-то своих – чего, освободил? Не освободил?!. Ага… Значит, он получал доходы со своих крепостных, но при этом «страшно страдал». Дети на самом деле все совершенно адекватно воспринимают.
И у школьника к выпуску из школы складывается совершенно отрицательный образ Некрасова. Это – проклятый зануда, который извел всех своими стонами, который объяснял, как он страдает по крестьянскому поводу, и тем не менее крепостные крестьяне на него продолжают работать, а он их эксплуатировать, и вообще, провались оно все пропадом!
Однажды в университете на первом курсе нам попалась книжка одна такая, автора не помню, издательство помню. Издательство ссыльных каторжан и политпоселенцев, а может быть «Политкаторжан и ссыльных поселенцев». А только 1929 год. Ну, в те года русская классика «деятелей дворянской культуры», так сказать, в большой чести не была. И прочитали мы в той книге, ужасной абсолютно, что Некрасов был (да-да, перефразируя или цитируя Грибоедова: «и крепко на руку нечист»), что юный Некрасов явился в Петербург, деньги быстро кончились, жить было неясно как, он встретил какую-то девушку на улице, навязал ей свое знакомство, пошел к ней в гости, и стал у нее и с ней жить. Она была простая трудящаяся девушка. Она была модистка. То есть она на дому шила белье и жила на эти деньги. И его содержала на эти деньги.
А он любил выпить, а ему давали деньги, он просил, – а он бежал и проигрывал. В конце концов у нее кончились все деньги. И она ему сказала, что деньги кончились… она не знает, как теперь жить, и ей уже нечего ему дать. Они вместе спустились на улицу, посмотрели друг на друга, повернулись и пошли в разные стороны. Больше он к своей любимой девушке-модистке не возвращался – у нее деньги кончились. Как в известном переводе на русский язык: «А что, еще что-нибудь осталось? – с надеждой спросил Винни-Пух».
С большим трудом девушка оправилась от потери всех сбережений и такого коварства. И через несколько лет восстановила прежнее положение. Она расширила круг клиентуры, она опять что-то скопила. Вообще она мечтала купить маленький домик на окраине или в деревне, купить корову, завести свое хозяйство, выйти замуж не за какого-то, который будет ее бить, а за того, кого она сама изберет. Вот на это она копила деньги. И она опять на улице встретила Некрасова. Повторилось все совершенно в точности. Он еще не успел стать знаменитым и преуспевающим, и он пошел с ней. И они стали жить, пока у нее не кончились все сбережения. Они спустились на улицу, посмотрели друг на друга, ну и теперь уж не виделись никогда. Хочется надеяться, что бедной девушке все-таки повезло, потому что третьей встречи, согласно бродячим сюжетам мировой литературы, она бы, конечно, уже не пережила.
Вот этот самый Некрасов, когда был привечен Панаевым в «Современник», стал жить с женой Панаева Авдотьей Панаевой. Он с ней совсем не сразу стал жить, потому что Авдотья, Дуняша, была совершенно порядочная девушка, воспитанная в приличных правилах. Что может быть, она никогда не сгорала от страстной любви к Панаеву, может быть, он был ее несколько старше, но она вышла за него замуж. Они венчались. Она совершенно не собиралась наставлять ему рога. Это было задолго до эпохи сексуальной революции. А Некрасов стал домогаться Панаевой.
Панаев как-то думал о другом и смотрел в другую сторону. Трудно сказать, принадлежал ли он к сексуальному меньшинству, или какие-то возрастные изменения, или он не принимал какого-то препарата, который делает мужчин счастливыми. Короче говоря, Панаев смотрел на это сквозь пальцы. Его устраивало, что Некрасов – хороший редактор, находит материалы, сам пишет интересное, все прекрасно. А Авдотья Панаева никак не хотела одарить Некрасова своей благосклонностью! То есть полная противоположность тому, как отнеслась, допустим, жена графа Воронцова к молодому Пушкину в Одессе.
Вот однажды Некрасов катал Авдотью Панаеву на лодочке по Неве, и опять стал домогаться ее взаимности. В чем ему опять было отказано. Тогда он в совершеннейшем бешенстве швырнул весла в воду и сказал, что если она не ответит ему взаимностью, то сейчас он перевернет лодку! они утонут, он утопит ее и утопится сам! И она сказала: ну, значит такова воля Божья. Тогда он прыгнул в воду – и стал тонуть, потому что хоть «стон на Волге раздавался», где Некрасов вырос, плавать он все-таки не умел. В те времена умение плавать не входило в число дворянских доблестей и полагающихся умений. Авдотья Панаева стала кричать, что тонет Некрасов. Некрасова вытащили, посадили обратно в лодку; весла поймали, дали ему весла. Некрасов сказал, что все в порядке. Спасители отплыли. Некрасов сказал Авдотье Панаевой, что сейчас он выбросит весла, прыгнет в воду – и тогда уже его точно никто не вытащит, и он примет к этому все меры. Примерно вот так началась их жизнь в гражданском сожительстве.
Играл обычно Николай Алексеевич Некрасов в том самом Владимирском игорном клубе, где потом много десятилетий был знаменитый театр Ленсовета. Вполне приличное здание, 200–300 метров от Невского, все было хорошо. Суммы проигрывались иногда серьезные, потому что в те времена на «Современнике» можно было выручать деньги. Журнал читали люди состоятельные, имелись также меценаты, и т. д. и т. п.
Когда узнаешь такие вещи про Некрасова, которого представляешь исключительно уже по фотографиям, где изможденный раком старец, живой скелет с вылезающими волосами, ввалившимися страдальческими глазами смотрит на мир, – очевидно страдает по крестьянам, которые стонут на Волге. И смотреть на него просто непереносимо. Ты еще жив и здоров, а он уже вот так страдает. И так сто пятьдесят лет подряд. Шутите вы, что ли? Ужас какой-то!.. Так вот, – когда узнаешь, каким он был на самом деле, начинаешь проникаться к нему какой-то чисто человеческой симпатией. Было в этом что-то, знаете, живое, озорное, эпатирующее, неприличное, эгоистичное, мужланское, азартное, – но совершенно живое.
Вот, понимаете, русскую литературу можно воспринимать только как нечто совершенно живое. Когда начинают сюсюкать и приводить академические образцы – это сразу совершеннейшая неправда. Сразу неправда, все! Сразу вместо литературы, – вот как вместо краба берут засушенный и покрытый лаком панцирь от краба, вот чтобы не взять панцирь без краба, – нужно себе представлять этих людей живьем. Не то, что они были плохие, – а то, что они были живые, нормальные, и в них единственно возможным образом для всех писателей были все доблести и все пороки всех их героев. А иначе бы они ничего не могли написать.