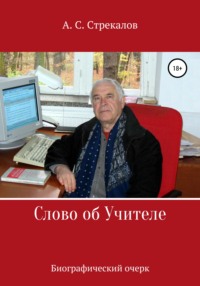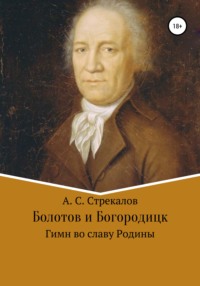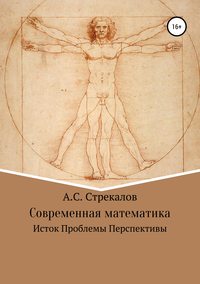Полная версия
Немеркнущая звезда. Часть первая
Ни одного дня не просидела она просто так, ни одного часа даже: все куда-то вечно рвалась, вечно спешила. У неё частенько за те три года от переутомления и недосыпания болела и кружилась голова и по ночам кровь тоненькой струйкой бежала из носа, частенько её поташнивало с голодухи… Но пыла это не убавляло, не гасило святого огня в груди, и областной сельхозтехникум, который мама Вадика закончила с красным дипломом, не стал бы последней ступенькой в её образовательной судьбе… если б не раннее замужество её и последовавшие за этим роды.
Два сына, появившиеся у неё на свет с промежутком в два года, а потом ещё и дочь заставили Антонину Николаевну забыть о себе и переключиться полностью на семью: своих ребятишек и мужа. Но жажды знаний, образования и культуры семья в ней не убила ничуть, даже и не притупила. Просто эту жажду со временем она надеялась удовлетворять уже через детишек собственных, через первенца Вадика, в первую очередь, которому она отводила в этом наиважнейшем процессе решающую в семье роль, образцово, так сказать, показательную…
13
Но Вадик в школе надежд материнских не оправдал, учёбой не загорелся и не увлёкся. И если шесть классов первые, которые он закончил, только разочаровывали мать, грустить и тяжело вздыхать заставляли, – то наступивший седьмой класс со злополучной вечерней сменой стал для неё трагедией с первого дня, которую она с трудом перенесла, которой не могла ни с кем поделиться. Каждое очередное собрание той поры, каждое посещение школьное превращались для неё, тихой и кроткой женщины, в унижение и пытку одновременно, которые старили и убивали Антонину Николаевну на корню, низко к земле пригибали, делая этим в точности на покойницу-мать похожей, что согбенною проходила последние несколько лет, вокруг себя никого не видя, не слыша.
Она-то, святая душа, надеялась, была уверена даже, что её старший сын, её Вадик, смышлёный и памятливый от природы, в школе будет круглым отличником, передовиком, образчиком знаний и прилежания; и с лёгкостью сумеет взобраться на самые крутые, самые головокружительные образовательные вершины, которые ей самой оказались, увы, недоступны… А он сможет их покорить – потому что умный и страшно талантливый: она чувствовала это. Поэтому он непременно выучит и поймёт всё то, что она когда-то в силу разных причин не смогла или не успела выучить и понять, пытливо дознается до тех вещей премудрых, до которых она, замужняя женщина, мать троих детей, в молодости не дозналась. Он это должен сделать, просто обязан её, сироту полунищую, превзойти во всём – стать лучше, образованнее и умнее. Он ведь частичка её, маленькая её кровиночка, вышедший в мир из неё с истошными криками родовыми, беспрерывными многочасовыми муками. И значит не может жить по-другому, науку с книгами не любить, к знаниям не тянуться супротив веления крови.
Поэтому даже первые школьные неудачи сына не очень-то её и расстраивали, если начистоту, хотя и были ей неприятными как те же мухи. Она всё надеялась и хотела верить, что это – временное явление, как та же ветрянка или корь, и непременно пройдёт с Божией помощью, не оставив следа на теле. После чего её сын, от природы непоседливый и озорной, перебесившись в детстве, остановится, наконец, дурь из головы выкинет и в лучшую сторону переменится; образумится и остепенится классу к седьмому-восьмому и по её стопам непременно пойдёт. Она терпеливо ждала этого с первого школьного дня, верила в благополучный исход всей душою своей, всем сердцем. И, одновременно, всеми способами и силами готовила старшему сыну для этого внутреннего просветления и преображения почву, беседы с ним познавательные регулярно по вечерам проводя, книжки хорошие читать заставляя, телевизионные смотреть фильмы.
А он, негодник, и раньше учившийся кое-как, через пень-колоду что называется, в седьмом классе уже сознательно и серьёзно плюнул на школу, спиной к образованию повернулся, троечником круглым стал. Одни лыжи были у него на уме, соревнования, тренировки, победы спортивные.
В прежние годы, посещая родительские собрания, Антонина Николаевна видела в глазах обучавших Вадика педагогов огоньки участия и надежды, слышала слова приветливые, обнадёживающие: что-де способный ваш мальчик, не старается только; но если захочет, дескать, если за ум возьмётся, то всё у него хорошо будет, не волнуйтесь, мол, ждите. Теперь же всё поменялось коренным образом, и на каждом собрании она уже чувствовала по отношению к себе одно лишь холодное равнодушие, граничившее с брезгливостью, с презрением даже, до глубины души оскорблявшие и унижавшие её, не оставлявшие ей, несчастной, уже никаких надежд и шансов на будущее.
Учителя, такие милые и обходительные ещё даже и год назад, уже отмахивались от неё как от постылой пьющей соседки, и на все расспросы настойчивые, заинтересованные, отвечали коротко, холодно, зло: «Не хочет, не учится, не делает ничего. Нам поначалу казалось… а теперь видим, что нет, что ошиблись в нём, и ничегошеньки из него, ленивца негодного и непутёвого, не получится… Так что не мучайтесь, мол, понапрасну, мамаша, – уже на ходу сквозь зубы бросали они ей, за ними тенью плетущейся, – не терзайте себя и нас еженедельными надоедливыми посещениями – и ничего хорошего от мальчика своего по нашей части не ждите. Олух, мол, он у вас, каких свет не видел, лоботряс ужасный и круглый без палочки ноль. Уж извините за откровенность…»
Сей приговор суровый, выносимый педагогами сыну, а вместе с ним, естественно, и ей самой, резал Антонину Николаевну без ножа, лишал всякого желания жить, есть спокойно и спать, любить, воспитывать и работать. Порою было такое чувство даже, после особенно нервных и горьких в школе бесед, будто бы ей – прилюдно! – отвесили там пощёчину или наплевали в лицо как преступнице, или ненавистному всем врагу, с которым людям противно и тошно общаться.
Ноги её подкашивались, сердце сжималось и останавливалось от тоски, по телу пробегал холодный озноб, по спине пот катился. Шатаясь, она покидала школу с низко опущенной головой, полные слёз глаза ото всех пряча, с трудом добиралась до дома, порог переступала с трудом; а зайдя в дом, без сил опускалась на кухне на первый попавшийся стул и тут же начинала плакать, голову обхватив руками и никого не замечая вокруг, при этом тихо, как и покойница-мать, подвывая. Горькие обильные слёзы, не останавливаясь, долго текли по её впалым бледным щекам, оставляли тёмные, влажные пятна на кофточке. Домашние в такие минуты к ней даже и не подходили – знали все хорошо, что утешать её бесполезно…
Материнские слёзы те, остро на всю жизнь запомненные, больно ранили сердце Вадика, когда он видел их, когда находился дома. Тогда он, выждав момент, когда мать наконец выплачется и успокоится, подходил к ней робко, на цыпочках, тихо становился рядом, сопя, осторожно прижимался к худенькому её плечику.
– Ну что ты, мам? – начинал он нежно гладить матушку по голове, по волосам прямым, уже заметно седеющим, чувствуя себя причастным к горю её, к её тогдашнему мрачному состоянию. – Не надо, не плачь. Успокойся.
Мать поднимала красные, слезами залитые глаза, в упор тяжело смотрела на сына… И столько было тоски в её взгляде и боли – настоящей, почти смертельной, как будто действительно умер кто, – что сын не выдерживал, отворачивался.
–…Почему ты совсем перестал учиться, а? – тихо, через силу великую спрашивала Антонина Николаевна, едва выговаривая слова. – Мне уже стыдно стало заходить в школу вашу, стыдно встречаться и разговаривать с людьми, учителями твоими. Они как на дуру смотрят все на меня, как на прокажённую… Я не могу так больше, у меня уже нету сил… Что ты со мной делаешь, Вадик? что творишь? Я ведь в старуху древнюю превратилась из-за тебя, мне уже жить не хочется…
После таких нелицеприятных слов слёзы ещё обильнее текли у неё из глаз, ещё черней и мрачней, некрасивей её лицо становилось. Усиливались и завывания…
Вадик хмурился и молчал, не смотрел на мать, не прижимался уже к плечу материнскому. Ему нечего было сказать в своё оправдание: он давно уже всё для себя решил. И дальнейшие разговоры и разбирательства уже ничего бы не изменили.
–…Я запрещу тебе ходить в твою дурацкую секцию, – произнесла Антонина Николаевна через минуту, от души наплакавшись и навывшись. – Я это сделаю, Вадик, слово тебе даю! если ты не можешь делать два дела одновременно; я пожалуюсь, наконец, отцу!
– Жалуйся, – тихо, но твёрдо отвечал матери сын, лицо которого из болезненно-сострадательного вдруг делалось волевым и не по-детски суровым. – А в секцию я всё равно ходить буду. И ничего вы мне с отцом не сделаете.
– А в школу? – болезненно морщась, вопрошала мать, поражённая таким настроем, напуганная даже им, – в школу ты ходить будешь? Учиться ты собираешься?…
В разговоре опять наступала пауза – долгая, тягостная для обоих.
–…Ладно, ступай, ну тебя к лешему, потом поговорим, – вконец обессиленная и издёрганная, мать поднималась со стула, легонько сына от себя отталкивая, всё ещё стоявшего подле неё. – Не хочу тебя, паршивца, больше видеть.
И оба расходились после этого по своим делам, крайне недовольные друг другом…
«Чего они все от меня хотят? – с раздражением думал Вадик, расстроенным уходивший от матери, – чего ко мне привязались? И в школе нудят каждый день, и дома: надоело слушать!»
Ему было и жалко маму конечно же, безусловно жалко – и зло брало на неё и школьных преподавателей, доводивших её до такого ужасного состояния. И его можно было понять – носителя собственной правды. Полтора года уже он рвался из сил, не щадил, не берёг себя ни на тренировках, ни на соревнованиях; даже и на доске почёта уже висел – единственный из семиклассников! – в секции до взрослого разряда дошёл, тренеры в нём души не чаяли, «золотые горы» сулили, – а им всё плохо, всё было не по сердцу: одни только выговоры слышались ежедневные да попрёки, да обвинения незаслуженные в разгильдяйстве и нерадении. И не просматривалось этим попрёкам конца – вот что было досадно! И чем интенсивнее он намеревался в будущем тренироваться и соревноваться, тем этих попрёков и слёз, по всему видать, стоит ожидать ещё больше. Ещё хуже станут относиться к нему и в школе четвёртой, и дома. Родители всю плешь ему проедят на пару с учителями.
«Только и слышно в последнее время: ничего не делаешь, не стараешься, баклуши бьёшь! Как будто спорт – это отдых какой; или – развлечение… Пусть кто-нибудь из них попробует пробежать хотя бы километров пять на время, – уединившись, злился он на учителей. – Посмотрим, что с ними тогда после такого “развлечения” станет…»
Подобное отношение к себе и своему тогдашнему увлечению было очень обидным и досадным ему! Тем более обидным, что виды на спорт он имел в тот момент самые что ни наесть серьёзные и в мыслях уносился уже далеко-далеко, к олимпийским победным вершинам “звёздным”. Он не пропускал ни одной телетрансляции или передачи, что лыжных соревнований касались, лыжного спорта: олимпиады, спартакиады, чемпионаты, беседы на соответствующие темы или телеинтервью – всё смотрел. Первые бегуны страны, имена и фамилии, достижения которых он знал уже назубок, сделались идолами для него, властителями дум мальчишеских, его безоговорочными и самыми главными обожателями и подражателями. Не было тогда для него на целом свете людей красивее, мужественнее, значимее и сильнее их. Он пожирал заслуженных мастеров-чемпионов глазами, безмерно восхищался ими, учился у каждого – побеждать, терпеть, выносить трудности и неудачи.
Смешно сказать, но он как обезьянка маленькая перенимал у знаменитых бегунов-лыжников всё, начиная от техники бега и кончая бытовыми привычками и разговорами. Их спортивные подвиги и рекорды, и слава громкая, мировая, неизменно его поражали и вдохновляли, лучше ремня подстёгивали, дразня самолюбие детское пуще всяких похвал, путеводной звездой становясь, главным жизненным ориентиром. Он, 13-летний одержимый бегом ребёнок, на полном серьёзе готовился в недалёком будущем не хуже их засверкать на звёздном небосклоне мирового лыжного спорта, готовился записать и свою фамилию в пантеон русской спортивной славы. Именно и только так!… А в это же самое время родители и учителя переходили ему дорогу, вязали по рукам и ногам своим пренебрежением и непониманием полным, считая его увлечение, его нешуточную к беговым лыжам страсть чем-то совершенно пустым, несерьёзным и даже очень и очень для школы и будущей жизни вредным. Тем же почти, как если бы он пить и курить вдруг начал, или же срамную бабу себе завёл и на ней захотел жениться.
– Ты учись зарабатывать на жизнь руками или головой, а не ногами длинными, не беготнёй дурацкой, – частенько увещевал его по вечерам подвыпивший отец. – Из нашего захолустья, поверь мне, сынок, далеко ещё никто не убежал. Да и не убежит, наверное… Уж сколько на моей памяти было всех этих бегунов отчаянных да прыгунов, футболистов “великих” да хоккеистов, – подумав, добавлял он с ухмылкой. – А где они все, в итоге?… В заднице! Точно тебе говорю. Или спились давно, или болтаются вон без дела по городу: в разнорабочих числятся да в холуях, над которыми все потешаются… А всё потому, что не учились по молодости, нормальной специальности, образования не получили. Вот и итог. Оттого и болтаются теперь как дерьмо в прорубе. И до смерти болтаться будут.
– А я убегу, разнорабочим и дерьмом не стану, не надейся. И потешаться над собой никому не дам, – улыбаясь, с вызовом отвечал отцу Вадик и уже на другое утро, чуть свет, уходил на очередную свою тренировку и тренировался в тот день особенно долго и яро…
14
«Его словно бы одурманил кто, дурачка, околдовал, – думала, в свою очередь, про старшего сына мать длинными, бессонными ночами, не зная, как успокоить и чем охладить трещавшую от напряжения голову. – Ничего его уже не интересует, кроме спорта, кроме этих лыж проклятых, ничего… Раньше, помнится, и программные книги читал, и художественные, рассказывал мне содержание; в районную библиотеку иногда ходил, в школьной был записан: какой-то хоть интерес имел, пусть маленький – но, тем не менее… А теперь книги в руки брать перестал, будто его от них отвадили… На тренировки только бегает почти каждый день да телевизор смотрит – всё про тот же спорт: про бег, соревнования, лыжи. Чокнулся уже на них, помешался, ей-богу… Превращается день ото дня в какого-то непутёвого дурачка, двоечника натурального, форменного, а ведь выпускные экзамены скоро, взрослая жизнь на носу. А он её оболтусом хочет встретить, неучем, пустышкой прожить, с лыжами и палками под мышкой. Куда такое годится! Разве ж правильно это?! разве ж к добру приведёт?! Да нет, конечно же! – и к бабке ходить не надо!… Но говорить и внушать бесполезно: он ничего слушать не хочет, негодник, – хоть ты его убей, хоть кол на голове теши! Всё своё гнёт – баран упрямый!»
Чего только она ни делала в седьмом классе, каких мер за четыре месяца первого полугодья ни принимала: увещевала, грозила, требовала, – всё было без толку. Однажды они с мужем даже решились на отчаянный шаг: ночью, когда Вадик спал, взяли будильник с его тумбочки, заведённый на семь часов, унесли его в коридор и, закрыв будильник одеялом, дали ему отзвенеть.
«Утром не услышит звонка, проспит – и не пойдёт в секцию, – довольные, загадывали они после этого, укладываясь в постель. – День не сходит, два, вместо пустой беготни по лесу поспит подольше, понежится… Глядишь – и отвыкнет совсем, про лыжи и спорт забудет…»
Но Вадик не проспал, не пропустил занятие, не порадовал отца и мать. Очумело вскочив ранним утром с кровати с получасовым опозданием и обругав ни в чём не повинный будильник, он быстро оделся в прихожей и голодным умчался на тренировку со всех ног, забыв дома варежки, – и родители бросили свою затею, устыдились оба её…
Видя полную неэффективность силовых методов, расстроенная матушка оставляла их и пробовала докричаться до сына с другой стороны – духовной. В душу пробовала к нему пробраться или хотя бы достучатся до неё как-нибудь; чем-нибудь особенным увлечь парнишку и образумить, заинтересовать, заинтриговать, зацепить. После чего переориентировать мысли и чувства его совсем на иные цели и ценности – не земные, не материальные, не спортивные, которые она и ценностями-то не считала, которые презирала до глубины души как тех же торгашей на рынке или развлекательные по телевизору передачи. Всё это было для неё ерундой – одного, так сказать, поля ягодками. Поэтому она и хотела, всячески стремилась отвадить его от них, ничтожных и по-детски пустяшных.
Раз за разом воскрешая в памяти первую свою учительницу и её увлекательные по вечерам беседы, которые хорошо помнились, трогали до глубины души и столько ей в жизни дали, она решила пойти по её пути, проторённой знакомой дорожке.
– Вадик, – ближе к Новому году, к концу второй четверти, начала приставать она почти каждый вечер к возвращавшемуся из школы первенцу, на кухне дожидаясь его, ужин подогревая, – знаешь, я тут недавно прочла одну очень интересную книгу: хочу её с тобой обсудить, поделиться прочитанным и узнать твоё мнение… Ты иди – переодевайся быстренько, умывайся, ужинай, – а потом мы с тобой поговорим. Хорошо? договорились?
Вадик в ответ согласно кивал головой, раздевался, ужинал не спеша, убирал еду со стола, подходил, умиротворённый, к матери.
– Садись, – говорила ему поджидавшая его с нетерпением Антонина Николаевна, одной рукой пододвигая сыну стул, а другой держа наготове какой-нибудь очередной томик из серии ЖЗЛ, который она перед этим брала в библиотеке и предварительно от корки до корки прочитывала. – Слушай.
И она своими словами принималась рассказывать содержание прочитанной книги, дополняя рассказ – точь-в-точь как это когда-то делала её учительница – выдержками из неё, понравившимися мыслями и цитатами. Про жизнь Ломоносова перво-наперво рассказала, главного кумира-обожателя своего. Потом – про Лобачевского с Менделеевым и их нелёгкие в целом судьбы, человеческий и научный подвиги, достижения и заслуги. Но главное, про то, как каждый из них, идя по жизни своим особым путём, делал, в итоге, огромной важности дело. Поднимал себя и своих современников, а вместе с ними – и все последующие поколения россиян на небывалую до того высоту – Духа в первую очередь, – показывая каждому смертному его возможности воистину-безграничные, богатейший научно-интеллектуальный потенциал и невероятную духовную мощь и силу.
– Им трудно было, мой дорогой сынуля, очень трудно, поверь! – с жаром говорила она, перед Вадиком с раскрытою книжкой стоя, – как бывает одиноко и трудно всем, кто идёт впереди паровозиком, пробивая дорогу другим; кто ввысь, а не вниз стремится, не прячется у товарищей за спиной, норовя в тишине отсидеться… Но они всё равно шли – “спотыкались”, “падали”, “лбы разбивали” в кровь, стонали может быть даже ночами бессонными от бессилия и насмешек. Случалось у каждого и такое, да, – минутные слабости, стоны и слёзы… Но потом-то они эти слабости стряхивали как паутину с век, стыдились их, что для нас крайне важно, собирались с духом и силами – и дальше шли. Они не давали себе передышки и послабления – категорически! – потому что дорожили временем и талантом, которого были заложниками…
– Больше тебе скажу, – через паузу продолжала мать, – и сомнения были у каждого, вероятно, когда силёнок совсем уже не хватало, и плюнуть порою хотелось на всё – хоть денёчек один, хоть половину денька пожить для себя, как другие живут: поспать подольше, покушать послаще, погулять, порадоваться и повеселиться. И ни о чём таком больше не думать, вселенском и архиважном, воистину тяжёлом и неподъёмном, не ломать голову, не губить здоровье, нервы не портить и не трепать, жизнь единственную.
– Но это проходило быстро – паника, хандра, пессимизм, – я в том абсолютно уверена! Потому что у каждого вера была могучая и неистребимая, что не напрасен всё ж таки их каторжный каждодневный труд, не шутовство и не баловство, – что очень кому-то важен и нужен… А ещё все они твёрдо знали и помнили главное: что “не игрушка душа, чтоб плотским покоем её подавлять”, сытостью вечной и праздностью. И коль рвётся она, голубушка, к небу и звёздам, то и не нужно её удерживать, тем паче – мешать: страстями своими, похотью и пороками, и сиюминутными житейскими выгодами.
– Они очень хорошо понимали это, – рассказывала далее разгорячённая Антонина Николаевна притихшему сыну. – Потому и поднялись так высоко, на вершину Мирового Духа, куда до них не ступал никто, ни одна тварь земная, показывая нам всем пример героической самоотверженности и самоотдачи, призывая нас, грешных, идти дальше них! – продолжать их великое подвижническое дело! Неужели ж тебе не хочется быть похожим на таких воистину-героических людей, Вадик?! неужели жизнь их, святая и праведная, не трогает, не зажигает тебя?!
Вадик слушал рассказы матушки молча, запоминал их и даже про себя удивлялся тому, как умело, оказывается, может говорить его родная мать, когда захочет, с каким вдохновением, экспрессией внутренней, жаром, – но сердцем всё-таки оставался к её рассказам глух, на уговоры материнские не поддавался, не загорался ими. И не то чтобы её рассказы не нравились ему совсем, коробили или отталкивали чем-то, – нет, ничего подобного не происходило даже и близко. Просто в сердце его непоседливом, пламенном тогда безраздельно властвовали другие герои – те, например, кто на последней, по телевизору увиденной Олимпиаде совершал настоящие чудеса на лыжне, спортивные подвиги даже; а на финише падал без чувств в объятия счастливых товарищей, массажистов и тренеров, обеспечив команде победу. Кто потом стоял с заострившимся, почерневшим лицом на пьедестале почёта с букетом цветов в руках и золотой олимпийской медалью на шее, а в его честь в это время играли гимн их великой и могучей Державы, Союза Советских Социалистических республик; и на флагштоке поднимался к небу кроваво-красный флаг с серпом и молотом в уголке – самый красный из всех и самый красивый флаг на свете!
–…Ну а разве ж спортсмены: я заслуженных мастеров имею ввиду, а не дилетантов и физкультурников, членов кружка здоровья, – разве ж они, отдающие большому спорту всё – без остатка, профессионально им занимающиеся долгие годы, не достойны уважения и восхищения? – пробовал возражать он.
– Вадик! – строго останавливала его мать, чувствуя настроение сына. – Человек – это не только руки и ноги, пусть даже и очень сильные и быстрые; это ещё и душа, и разум, и воля, и дух Божественный, всепобеждающий… и многое-многое другое – духовное, неосязаемое и необъятное, – что отличает его от четвероногих и двуногих существ, что, собственно, и делает человеком. А ты пытаешься сознательно ограничить себя развитием одних лишь рук и ног, да ещё, может быть, легких с сердцем… А со всем остальным как быть, духовным? На свалку выбросить что ли? или Господу Богу вернуть? На, мол, возьми, Отче, назад: мне это всё без надобности?!…
– Спорт, – переведя дух, продолжала матушка чуть спокойнее, – это хорошо; это очень хорошее и нужное дело, я разве ж спорю, сынок, – если только рассматривать его как средство для поддержания физической формы, для укрепления здоровья телесного – не более того. Но это никак не цель, не самоцель для человека! – это же очевидно! Только дебилы полные всю свою жизнь способны бегать и прыгать, и пудовые гири тягать! – на что ты, как мне кажется, и нацеливаешься и что мне более всего не нравится в тебе, категорически не нравится… Ведь сам посуди, Вадик, дорогой ты мой человек, что как ты там ни тренируйся, как ни бегай, высунув по-собачьи язык, хоть по нескольку раз на дню в секцию свою мотайся, – ты всё равно никогда не будешь носиться по улице быстрее лошади, или собаки той же; сколько гирями ни маши, ни тягай их тупо – здоровее медведя или быка не станешь. Ты со мной согласен?…
Вадик хмурился, не отвечал – сидел и сопел только.
–…А разум, – так и не дождавшись ответа, продолжала дальше свои убеждения Антонина Николаевна, изо всех сил пытавшаяся достучаться до своего упрямого чадушки и хоть чем-то его зацепить и воспламенить, – разум сделал маленького ничтожнейшего человечка хозяином всей земли, позволил того же медведя с лошадью приручить, сделать своими помощниками и союзниками. Больше скажу: разум помог человеку космос освоить, на далёкую Луну слетать, дал возможность – только ему одному! – заглянуть в другие миры, объять Вселенную нашу до самых дальних границ, мысленно перейти те границы. А ты не хочешь учиться, не хочешь ни сколечко напрягать и развивать мозги; хочешь всю силу природную, всю энергию с волей пустить в мышцы ног, в бег какой-то, дурацкие лыжи – добровольно мечтаешь в собаку гончую превратиться, уж извини, в лошадь скаковую, ипподромную! Ну не глупо ли это, сам посуди, не мелко ли?!…
– Ты только подумай, сыночка мой ненаглядный, представь себе на секунду, как удивительно человек устроен, с какой амплитудой и диапазоном возможностей самых диковинных и невероятных, изначально заложенных в нём, – говорила мать далее с жаром, что с каждым новым словом и мыслью разгорался в груди её всё сильней и сильней. – Его ребёночком можно оставить в лесу, и он – один если будет – превратится там в дикаря, в Маугли, не знающего ничего, даже и языка человеческого, умеющего только что-то жевать беспрерывно и пить, и по деревьям как обезьяна лазить; а можно его наоборот посадить в библиотеку, к культуре с юных лет приобщить, – и он наверняка станет большим учёным, писателем мировым или поэтом. Ты видишь, какая человеку с рождения дана широта выбора необычайная: или чистый дикарь, живущий одними инстинктами, всю жизнь потакающий им, или чистый гений – как Пушкин и Лермонтов например, или те же Есенин с Блоком, – которые уже в молодости обуздали дикую природу свою, возвысились над ней, поставили её себе на службу. Куда хочешь – туда и иди, кем хочешь – тем и становись. Хочешь – дикарём, хочешь – гением: всё в твоей власти, всё под силу тебе! всё реально и всё возможно! Разве ж это не чудо Господне, скажи? – такая данная нам от природы свобода и широта выбора!… Я не спорю: здесь важны, конечно же, и условия жизни, и окружающая обстановка, и куча всяких случайных причин; очень многое значит для каждого из нас семья, дух и настрой семейный. Но судьбу-то свою человек – если только он не ничтожество полное, не дебил и не тряпка! – судьбу себе каждый, по большому счёту, всё-таки выбирает сам. И выбор этот наиважнейший делается сейчас, в твоём именно, Вадик, возрасте.