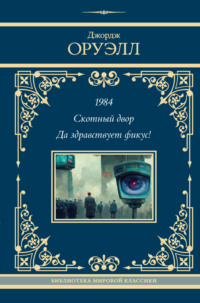Полная версия
1984. Скотный двор
Я прошел за ней в дверь, потом задами на кухню в подвале. У стены стояла кровать, на столе тускло горела лампа, фитилек которой был подвернут почти до конца. Она…
Уинстон стиснул зубы. Хотелось сплюнуть. Одновременно с женщиной в подвальной кухне он вспомнил Кэтрин, свою жену. Когда-то Уинстон был женат… впрочем, как и сейчас, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он снова вдохнул спертый воздух кухни, в котором мешались запахи клопов, грязной одежды и противных, дешевых и все же соблазнительных духов. Партийные женщины не душатся никогда, духи в ходу только у пролов. В его сознании их запах удушающе мешался с распутством.
Он уже пару лет не был с женщиной. Разумеется, общение с проститутками запрещалось, но этот запрет относился к тем, которые изредка нарушаешь. Поймают – дадут пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если нет других прегрешений. Лишь бы не взяли с поличным. Беднейшие кварталы буквально кишат женщинами, готовыми себя продать. Иным хватает бутылки джина (пролам он не полагается). Негласно Партия даже поощряет проституцию, ведь та дает выход инстинктам, подавить которые полностью еще не получалось. На обычное распутство смотрят сквозь пальцы, пока оно остается шито-крыто да уныло и вовлечены в него женщины из низшего и презираемого класса. Непростительными считаются беспорядочные половые связи между членами Партии. Однако, хотя в этом преступлении признавались практически все без исключения жертвы великих чисток, Уинстону верилось в такое с трудом.
Цель Партии состоит не только в том, чтобы между мужчинами и женщинами не возникала привязанность, которую нельзя контролировать со стороны. На самом деле требовалось лишить половой акт всякого удовольствия. Главный враг – не любовь, а эротика, что в браке, что вне брака. Все союзы между членами Партии устраиваются с ведома специального комитета, и (вслух этот принцип не озвучивают) в разрешении паре отказывают, если будущие супруги чувствуют взаимное влечение. Единственной целью брака считается рождение детей для служения Партии. К половому акту относятся словно к малоприятной медицинской процедуре вроде клизмы. Опять же, прямо об этом не говорится, но подспудно с детства вдалбливается каждому члену Партии. Существуют даже специальные организации вроде Юношеской антисекс-лиги, ратующие за полное воздержание для обоих полов. Детей следует зачинать с помощью искусственного оплодотворения (на новослове это называется «ископлод») и выращивать в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что это не всерьез, хотя и удачно вписывается в идеологию Партии: убить половой инстинкт, а если не выйдет, то принизить и изгадить. Он не знал зачем, просто чувствовал, что так и должно быть. Что касается женщин, то усилия Партии по большей части увенчались успехом.
Он снова подумал о Кэтрин. Они разошлись девять, десять, точнее, почти одиннадцать лет назад. Как ни странно, Уинстон вспоминал о ней редко. Иногда он даже забывал, что вообще был женат. Вместе они провели пятнадцать месяцев. Разводиться Партия не разрешает, хотя бездетных призывает расстаться.
Кэтрин была высокой блондинкой с очень правильной, горделивой осанкой. Черты крупные, нос с горбинкой – ее лицо можно бы назвать благородным, если бы за ним не скрывалась практически полная пустота. Еще в самом начале совместной жизни Уинстон решил – хотя, вероятно, лишь потому, что ее он узнал лучше, чем других людей, – что глупее, вульгарнее и скудоумнее Кэтрин никого не встречал. В голове ее не задерживалось ни единой мысли, кроме партийных лозунгов, и она глотала любую невообразимую чушь, если та исходила от родной Партии. Про себя Уинстон называл ее «ходячая фонограмма». И все же он смог бы с ней ужиться, если бы не секс.
Стоило ему к жене прикоснуться, как та морщилась и цепенела. Обнимать ее было все равно что деревянную куклу. Как ни странно, даже прижимая мужа к себе, она словно отталкивала его изо всех сил. Кэтрин лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не отвечая на ласки – она тупо подчинялась. Уинстон находил это чрезвычайно унизительным, а под конец и противным. Если бы они договорились обходиться без половых отношений, Уинстон смирился бы с совместной жизнью. Как ни странно, Кэтрин отказалась. «Мы должны родить ребенка», – заявила она. Исполнение супружеского долга происходило регулярно – раз в неделю, если тому ничего не препятствовало. Она даже напоминала ему утром, словно речь шла об обязанности по дому, которую непременно следует выполнить вечером. Кэтрин использовала два выражения: «сделать ребенка» и «наш долг перед Партией» (она и в самом деле так выражалась!). Уинстон стал ожидать назначенного дня со страхом. К счастью, зачать ребенка не получилось, Кэтрин признала, что пора оставить попытки, и вскоре они разошлись.
Уинстон неслышно вздохнул, снова взялся за перо и написал:
Она улеглась на кровать и сразу, безо всяких прелюдий, самым отвратительным и пошлым образом задрала юбку. Я…
Он стоял в тусклом свете лампы, в нос била вонь клопов и дешевых духов, сердце саднило от горечи поражения и обиды. Внезапно Уинстону вспомнилось белое тело Кэтрин, навеки застывшее под гипнозом Партии. Почему всегда так? Почему нельзя быть с женщиной постоянно, вместо этой мерзкой возни раз в несколько лет? Увы, нечего и думать о том, чтобы завести роман. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие въелось в них так же глубоко, как и преданность Партии. Естественное чувство вытравляют из них с детства: продуманным воспитанием, играми и холодными обливаниями, чушью, которой им забивают головы в школе, в Разведчиках и Юношеской лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и маршами. Рассудок говорил Уинстону, что исключения наверняка есть, но сердце не верило. Все они непробиваемы, как и задумано Партией. Ему хотелось даже не столько быть любимым, сколько сломать стену добродетели, хотя бы раз в жизни. Полноценный половой акт – мятеж, желание близости – помыслокриминал. Даже пробудить чувства в Кэтрин, собственной жене, если бы ему удалось, было бы сродни совращению.
Историю следовало закончить. Уинстон написал:
Я прибавил огня. Увидев ее при свете…
После полумрака слабый свет керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то Уинстон разглядел женщину как следует. Он шагнул вперед и замер, переполненный похотью и ужасом. Придя сюда, он рисковал многим. Вполне вероятно, что патруль задержит его при выходе – может, они сейчас поджидают прямо у дверей. Даже если уйти, не сделав того, ради чего он здесь…
Это нужно записать, он должен облегчить душу. При свете лампы Уинстон увидел, что женщина старая! Краска покрывала ее лицо густо, как штукатурка, того и гляди треснет. В волосах блестела седина, а страшнее всего был чуть проваленный, приоткрытый рот без единого зуба.
Уинстон торопливо записал корявыми буквами:
Когда я увидел ее при свете, то понял: она очень старая, точно за пятьдесят. Но я двинулся к ней и все равно сделал то, за чем пришел.
Он снова прижал пальцы к глазам. Хотя Уинстон смог себя пересилить и записал все как было, лекарство не сработало. Желание грязно браниться во весь голос никуда не делось.
VII
«Если и есть надежда, то она заключена в пролах», – записал Уинстон.
Если надежда есть, то она должна заключаться в пролах, ведь только эта зыбкая, отверженная масса, составляющая 85 процентов населения Океании, и способна стать силой, которая уничтожит Партию. Изнутри Партию не одолеть. Ее враги, если они вообще есть, лишены возможности объединиться, узнать друг друга. Даже если легендарное Братство существует, входящим в него никогда не собраться больше, чем по двое-трое. Мятеж проявляется во взгляде, в интонации, максимум в слове, произнесенном шепотом. Зато пролам, если только они осознают собственную силу, незачем устраивать тайные заговоры. Им нужно просто встряхнуться – как лошадь стряхивает мух. Если захотят, пролы могут разорвать Партию на куски завтра же утром. Разумеется, рано или поздно до них дойдет, и все же…
Уинстон вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и вдруг из узкого проулка чуть впереди раздался рев сотен женских глоток. То был грозный крик гнева и отчаяния, глубокое, громкое: «Ох-о-о-ох!» – еще долго гудело, словно звон колокола. Сердце у Уинстона дрогнуло. Началось, подумал он. Бунт. Пролы наконец-то сорвались с цепи! Подойдя ближе, он увидел толпу из двухсот-трехсот женщин, сгрудившихся у прилавков на рынке, – лица трагичные, как у пассажиров тонущего корабля. Но тут же в единый миг общее отчаяние разбилось на множество мелких свар. За этим прилавком, очевидно, продавали оловянные сотейники. Пусть паршивые, пусть нескладные, но любых видов кастрюльки достать всегда трудно. И вдруг товар закончился. Счастливые покупательницы пытались пробиться сквозь толчею с добычей, те, кому не хватило, громогласно честили продавца, мол, только своим отпускает и прячет товар под прилавком. Снова поднялся крик. Две растрепанные толстухи яростно схватились за один сотейник, каждая тянула к себя, пока не оторвались ручки. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же на краткий миг пара сотен глоток испустила вопль, в котором прозвучала грозная, пугающая сила. Почему они никогда не кричат так из-за того, что действительно важно?
Уинстон написал:
Пока они не обретут самосознание, они не восстанут, а до тех пор, пока не восстанут, самосознание им не обрести.
Похоже на конспект из партийного учебника, подумал Уинстон. Партия, само собой, утверждает, что освободила пролетариев от оков. До Революции их жестоко угнетали капиталисты, они голодали и подвергались телесным наказаниям, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины там до сих пор трудятся), детей продавали на фабрики в шестилетнем возрасте. Но одновременно Партия учит, в полном соответствии с принципом двоемыслия, что пролы – существа низшего сорта, которых нужно держать в подчинении как животных, соблюдая несколько простых правил. На самом деле о пролах известно очень мало. Пока они продолжают работать и плодиться, их остальные дела никому не интересны. Предоставленные сами себе, словно скот на равнинах Аргентины, они неизменно возвращаются к своему естественному образу жизни, порядку, как бы унаследованному от предков. Они рождаются и растут в трущобах, в двенадцать лет идут на работу, после короткой поры созревания красоты и полового влечения женятся в двадцать, в тридцать уже стареют, потом умирают по большей части в шестьдесят. Их кругозор ограничен тяжелым физическим трудом, заботой о доме и детях, мелкими ссорами с соседями, кино, футболом, пивом и, конечно, азартными играми. Держать их под контролем несложно. Среди них всегда полно агентов полиции помыслов, они разносят ложные слухи, выискивают и устраняют тех немногих, кто может представлять опасность, однако попыток внушить им партийную идеологию не предпринимается. Политических взглядов пролам иметь не положено. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему в случае необходимости: заставлять работать больше часов или мириться с сокращением пайка. Даже если пролов иногда охватывает недовольство, это не приводит ни к чему: у не постигающих общие жизненные принципы смута выливается в мелкие дрязги. Крупные невзгоды от их внимания неизменно ускользают. В домах у подавляющего большинства пролов нет телеэкранов. Уровень преступности в Лондоне высокий, преступная среда образует своего рода государство в государстве, но воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками и аферисты всех мастей гражданскую полицию не интересуют, пока варятся в своем соку, и она в их дела практически не вмешивается. Во всех вопросах морали пролам дозволено следовать обычаям предков. На них не распространяются пуританские взгляды Партии на секс. Беспорядочные половые сношения не наказываются, разводы разрешены. В принципе, пролам могли бы позволить даже отправление религиозных обрядов, если бы они выказали такое желание. Пролы ниже подозрений. Или, как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».
Уинстон наклонился и осторожно почесал ногу. Язва снова зудела. Он не мог не думать, что нет ни малейшей возможности узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Достав из ящика школьный учебник истории, взятый у миссис Парсонс, Уинстон начал выписывать из него в дневник:
В прежние времена, до победоносной Революции, – говорилось в нем, – Лондон был совсем не тем прекрасным городом, который мы знаем. Темное, грязное, скверное место, где люди голодали, где сотни тысяч бедняков ходили босыми и не имели крыши над головой. Детям не старше тебя приходилось трудиться по двенадцать часов на жестоких хозяев, поровших их кнутами, если те работали слишком медленно, и державших бедняг на черствых сухарях и воде. Среди этой ужасной нищеты высились несколько больших, красивых зданий, где жили богачи, которых обхаживало до тридцати слуг. Богатых людей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми, со злобными лицами. На картинке справа – капиталист, одетый в длинный черный пиджак под названием фрак и нелепую блестящую шляпу в форме печной трубы под названием цилиндр. Такой была форма, и кроме них больше никому не позволялось ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а все остальные считались их рабами. Они владели всей землей, всеми домами, всеми фабриками и всеми деньгами. Того, кто им не подчинялся, могли бросить в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Если обычный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать кепку и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался король, а…
Остальное в этом перечне Уинстону было известно. Далее последуют епископы с батистовыми рукавами, судьи в отделанных горностаем мантиях, позорные столбы, колодки, топчак, плетки-девятихвостки, банкет у лорд-мэра и обычай целовать туфлю Папы. Было еще и jus primae noctis, так называемое право первой ночи, о чем в учебниках для младших классов вряд ли пишут. Каждый капиталист имел право переспать с любой женщиной, работавшей на его фабрике.
Как узнать, что из этого ложь? Может статься, среднему человеку сейчас живется лучше, чем до Революции. Единственное доказательство обратного – внутренний немой протест, безотчетное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы и так было не всегда. Уинстону пришло в голову, что отличительная черта современной действительности вовсе не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а убожество. Ни малейшего сходства с тем, что потоками льется с телеэкранов, не говоря уже об идеалах, к которым стремится Партия. Даже партийцы тратят бо́льшую часть времени не на политику, а на скучную работу и борьбу за место в подземке, штопают дырявые носки, выпрашивают лишнюю таблетку сахарина, курят бычки. Партийный идеал – огромный, прекрасный и сверкающий мир, союз стали и бетона, исполинских машин и страшного оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в едином порыве, думают одно и то же, кричат одни и те же лозунги, вечно работают, сражаются, побеждают, карают – триста миллионов человек на одно лицо. В реальности же хиреющие города, грязные улицы, где бродят полуголодные жители в дырявой обуви и стоят покосившиеся домишки прошлого века, насквозь провонявшие капустой и уборной. Перед мысленным взором Уинстона раскинулся разоренный Лондон, город миллиона мусорных баков, спаянный с образом миссис Парсонс, женщина с морщинистым лицом и растрепанными волосами, которая беспомощно возится с засором в трубе.
Он наклонился и снова почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны бьют тебя по ушам статистикой, доказывающей, что сегодня у людей больше еды и одежды, дома́ лучше, что живут они дольше, работают меньше, отдыхают больше, стали выше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. И ничего не докажешь, ничего не опровергнешь. К примеру, Партия заявляет, что сегодня грамотой владеют сорок процентов взрослых пролов, а до Революции – всего пятнадцать. Партия заявляет, что детская смертность составляет сто шестьдесят младенцев на тысячу, а до Революции – триста. И так далее. Словно уравнение с двумя неизвестными. Вполне может статься, что практически каждое слово в учебниках истории – чистой воды выдумка. И не было до Революции никакого jus primae noctis, ни капиталистов, ни цилиндров.
Все как в тумане. Прошлое стирают, потом забывают, и ложь становится правдой. Лишь раз в жизни Уинстону попалось – после самого события, вот что самое главное! – явное, безошибочное свидетельство фальсификации. Он держал его в руках секунд тридцать. Это было году в семьдесят третьем… когда они с Кэтрин расстались. Само событие произошло семью или восемью годами ранее.
Эта история началась еще в середине шестидесятых, во время массовых чисток, в которых разом канули бывшие лидеры Революции. К семидесятому году не осталось никого, кроме Большого Брата. Всех прочих уличили в измене и контрреволюционной деятельности. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, некоторые просто испарились, а большинство казнили после громких публичных судов, где они признались в своих преступлениях. Среди последних уцелевших были трое деятелей по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в шестьдесят пятом. Как часто случается, они пропали на год-другой, никто не знал, живы они или мертвы, как вдруг все трое объявились с покаянными излияниями. Признались в сговоре с врагом (на тот момент им тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах всевозможных деятелей Партии, кознях против Большого Брата задолго до Революции и диверсиях, приведших к гибели сотен тысяч жертв. После признания их помиловали, восстановили в Партии, поставили на ответственные должности, бывшие, по сути, синекурами. Все трое написали для «Таймс» длинные статьи, где каялись в преступлениях, разбирали мотивы своего отступничества и обещали исправиться.
Вскоре после освобождения Уинстон видел всех троих в кафе «Каштан». Он наблюдал за ними как завороженный, одновременно ужасаясь и не в силах не смотреть. Реликты древнего мира, они были гораздо старше его, почти последние великие деятели, составлявшие героическое прошлое Партии. Их осенял отблеск подпольной борьбы и гражданской войны. Хотя уже тогда факты и даты приобретали смутные очертания, Уинстону казалось, что их имена услышал раньше имени Большого Брата. Вместе с тем вся троица – преступники, враги, неприкасаемые, обреченные на уничтожение в ближайшие год-два. Никто из попавших в лапы полиции помыслов еще не избегал такого конца. Они мертвецы, ожидающие отправки обратно в могилу.
Соседние столики пустовали: никто не рисковал появляться в компании подобных людей. Трое молча сидели за джином, приправленным гвоздикой, – фирменным напитком кафе. Особенно Уинстона поразил Резерфорд, некогда известный карикатурист, чьи безжалостные шаржи разжигали страсти, подогревая общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь, хотя и с большими перерывами, его рисунки появлялись в «Таймс» – бледное подражание прежним карикатурам, на диво безжизненные и малоубедительные. В них повторялись одни и те же старые темы: трущобы, голодающие дети, уличные бои, капиталисты в черных цилиндрах (даже на баррикадах капиталисты цеплялись за свои цилиндры) – бесконечная, безнадежная попытка вернуться в прошлое. На вид Резерфорд казался чудищем: огромное тело, грива сальных волос, одутловатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, по-негритянски вывернутые губы. Когда-то, видимо, он был незаурядно физически силен, теперь же мускулистое тело расплылось, обвисло, где-то вздулось, где-то ввалилось: он разваливался на глазах, словно осыпающаяся скала.
В кафе было почти пусто, посетителей в пятнадцать часов всегда немного. Уинстон не помнил, зачем пришел туда в такой час. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка. Все трое сидели в углу почти без движения, совершенно молча. Не дожидаясь просьбы повторить, официант принес еще три стакана джина. На столике позади них лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. И вдруг, пожалуй, всего на полминуты, с телеэкранами что-то случилось. Сменилась звучавшая с них мелодия, изменилась и тональность музыки. В ней слышалось… даже трудно описать. Слышалось в этой мелодии (Уинстон мысленно назвал ее бульварщиной) нечто необычное, надсадное, истошное, глумливое. А потом с телеэкрана голос пропел:
Под раскидистым каштаномСдал я тебя, а ты меня.Под раскидистым каштаномТы лежишь и рядом я.Трое не шелохнулись. Но, когда Уинстон снова глянул на мертвенное лицо Резерфорда, в глазах у того стояли слезы. И тогда Уинстон впервые заметил, внутренне содрогнувшись, но так и не осознав, чему он содрогнулся, что и у Аронсона, и у Резерфорда сломаны носы.
Немного погодя всех троих снова арестовали. Выяснилось, что сразу после освобождения они вступили в очередной заговор. На втором суде трое опять признались в старых преступлениях и целой куче новых. Их казнили, а деяния увековечили в истории Партии как предостережение для грядущих поколений. Лет через пять, в семьдесят третьем, Уинстон развернул бумажки, выпавшие из пневмотрубы на рабочий стол, и обнаружил случайно затесавшийся между ними листок. Его важность он понял сразу. Это была вырезка из газеты десятилетней давности – верхняя половинка страницы – с датой и фотографией делегатов на каком-то партийном мероприятии в Нью-Йорке. Прямо в центре группы стояли Джонс, Аронсон и Резерфорд. Узнать их не составило труда, к тому же под снимком напечатали имена.
На обоих судах все трое признались, что в тот самый день находились на территории Евразии. Они вылетели с секретного канадского аэродрома в Сибирь и провели переговоры с генеральным штабом Евразии, которому и передали важные военные тайны. Дата врезалась Уинстону в память, потому что выпала на День летнего солнцестояния. Наверняка мероприятие широко освещалось, что зафиксировано в массе других источников. Отсюда могло следовать только одно: все их признания – ложь.
Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действительно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказательство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разъяснить людям, почему это так важно, – хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.
Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удается контролировать, другое дело – унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.
Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не существует?
Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:
Я понимаю КАК. Понять не могу ЗАЧЕМ.
Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня – что прошлое неизменно. Возможно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?
Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять, – и придется в это поверить. Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь – здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?