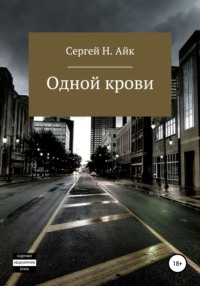Полная версия
Иллюзия Зла
– Оставь его, – вторгся голос третьего. Его не было видно. Только по голосу можно было судить, что говорящему лет тридцать, а может и больше…
– Но ведь холодно, простудиться, – это опять девушка, плача.
– Нет. А мы давай-ка отойдем. Я покурю, а ты посидишь на лавочке, – из тумана выдвинулись две фигуры. Девушка и накрывший ее плащом, мужчина. Они двинулись в его направлении, и он вынужден был отступить за дерево. Они сели на лавочку, которую в тумане он не рассмотрел. Потом появился желтый шарик, замер на мгновение, а потом метнулся в сторону и исчез. Осталась только слабо мерцающая точка.
– Учитель, как же так?
– О чем ты, Оксана?
– Игорек. Я даже представить себе не могла, что он так ее любит.
– Так…, а по-другому и не любят.
– Но ведь он не переживет этого.
– Переживет.
– Как Вы можете?!
– …
– Что же, выходит, что он забудет ее, найдет другую и будет счастлив?!
– Нет. Не забудет. Но другая будет обязательно.
– Уж лучше нет. Умереть сразу, вдвоем. Раз и нет нас…, навсегда…
– Умереть вдвоем, как ты говоришь – это награда.
– Награда?
– Конечно.
– За что?
– За то, что сделал то, что должен был сделать. Понимаешь?
– Не уверена. Странные слова. Странные и не понятные.
– Честно говоря, я и сам не все понимаю. Но там, где не хватает понимания, помогает вера.
– Вы верующий?!
– Конечно.
– А я нет. Уже нет. Не могу любить и верить в такого бога. Если он поступает так, то он – злой, жестокий старик.
– А я разве говорил, что Бог добрый?
– А как же иначе? Он ведь самый умный – значит самый добрый. Ведь ум – он в доброте, в прощении, в сострадании. Вы ведь так нас учите?
– Я этого не говорил. По крайней мере, по отношении к Богу. Я говорил это о людях.
– Я не могу понять. Как же может быть иначе?
– Так как есть. Бог – не человек. У него вечность, следовательно, ему не до нас.
– И как Вы можете такое говорить, – девушка даже поднялась со скамеечки, – ведь Вы сказали, что верите.
– Оксана, когда ты падаешь, тебе больно?
– Да. Но…
– Сила тяжести не исчезает.
– Так это сила тяжести.
– Она умная?
– Кто?
– Сила тяжести, ведь мы о ней говорим.
– Странный вопрос. Это же стихия. Она не может быть умной или глупой.
– Вот и разгадка, вот и ответ…
– Ответ. Вы хотите…
– Нет. Не хочу. Пойдем, Оксана. КАА, помоги забрать Игоря, – они поднялись со скамеечки, и зашли за оградку.
Мужик решил идти за ними, он был почти уверен, что они знают, где выход. Но они не спешили уходить. Они стояли молча, и каждый смотрел куда-то. Вдруг тот, кого называли учителем, снял с себя белый шарф, сделал шаг вперед и накинул его на крест, и даже перекрестился, как показалось мужику. А потом девчонка, а потом еще, еще, еще…. Все. Даже музыкант, не найдя ничего достойного в карманах, распустил струну с гитары, несколькими движениями превратил ее в тень цветка и оставил на деревянном кресте.
Мощный порыв ветра коснулся этого печального места. Колыхнул предметы, поднял фонтанчики из листьев и забросал всех, а потом вцепился в туман и начал рвать его, мелко-мелко, в клочья. Потом все затихло, замерло и что-то огромное, с прозрачным стоном ушло отсюда. Вверх.
Молодежь ушла.
Он сделал за ними пару шагов. Но идущие впереди, остановились и снова пришлось отступать и прятаться за дерево. Теперь, когда туман рассеялся, они были не нужны ему, он и без них мог бы уйти. Просто не хотелось ему им показываться. Он стоял за деревом и смотрел на них. Тот, который стоял на коленях, на могиле, его теперь бережно вели под руки. В какой-то момент мужику приоткрылось лицо этого мальчика. Он был поражен. Никогда ему не приходилось видеть такого лица…
Нет, не боль отразилась на его лице. Не так это было. Он сочился болью, как сжатый в руке плод сочиться соком. Тело мальчика держалось вертикально только потому, что рядом была девушка и тот, кого она называла учителем…
Наконец они скрылись за могилами. Без них мужику даже стало легче дышать. Он остался один. Ему было плохо. Его поташнивало. Он похлопал себя по карманам, потом чертыхнулся. Сигарет не было, можно было и не искать. Шатаясь, от неизвестно откуда взявшейся слабости, мужик присел на скамеечку, на которой сидели совсем недавно учитель и девчонка. Ему было холодно, руки дрожали. Во рту стояла было кисло-горько. Он понимал, что сейчас он плохой ходок, что ему надо передохнуть, отдышаться. Что-то двинулось к нему, от неожиданности он чуть не упал со скамейки, но оказалось, что по земле стелиться дымок. Мужик, опираясь на скамейку, попытался оглянуться и увидел, что дымится на земле окурок. Воровато оглянувшись, никогда не приходилось ему подбираться окурки, его коробило от этого, но сейчас и здесь, это было как чудо. Пальцами, которые ничего не чувствовали от холода, только с третьей попытки он смог поднять сигарету и сделать с облегчением пару глубоких затяжек. Ему стало легче. Ему стало почти хорошо…
Докуривая, бережно, что бы, не пропало, даже самой малости он с любопытством осматривался. Больше всего, его интересовали эти три могилы, точнее одна, крайняя, на крест которой были повязаны эти совершенно лишние предметы. Ни смотря на то, что надо было идти домой, он заглянул за оградку так, что бы прочитать надпись на табличке…
Стон. Откуда-то из глубины, которая и не значиться в медицинских учебниках о человеке, вырвался наружу. Надписи. Вот они. В центре – жена его бывшая – Елена Серафимовна. Справа – новый ее муж, оказалось, что зовут его Максим Григорьевич, а слева – значит от сердца – дочка его – Иришка. К которой он шел весь сегодняшний день, и вот, наконец, дошел.
Приготовился он к слезам, но те не лились, ведь должны были, но нет…, то ли замерз он, то ли…. Шагнул он за оградку. Захотелось посмотреть ему на лица. Но лица, которые прежде были ему родные, испугали его. Они были чужими. Больше всего испугала его веселая улыбка Иришки. И рванулся он назад, но заплелись озябшие ноги одна за другую, споткнулся он о чью-то старую могилу и начал падать, медленно, наблюдая, как приближается к его лицу страшный, изъеденный временем и погодой, угол могильной плиты. Хрясь-чавк, и угол, проломив череп, вмешался в мозг. Набросились холод и темнота…
Темнело. Звезды только предчувствовались. По дорожке, медленно, спотыкаясь на каждый шаг и черно матерясь, шел по тропинке местный житель – кладбищенский бомж. Ни цвета кожи, ни возраст из-за темноты и грязи определить было невозможно. Был он пьян. Был он болен. Был он одинок. И когда тропинку ему перегородило тело, принял он его за своего соседа, такого же бомжа, который квартировал в соседнем склепе. Присел он, начал с ним говорить, но присмотревшись, понял, что ошибся. Поднявшись, он пнул тело и обругал. От удара тело перевернулось. При свете первых звезд увидел бомж изуродованное, в крови лицо.
Наклонился, пощупал руку. Она была холодна и частично окостенела. Ужас объял беднягу. Хотел закричать – не было голоса. Захотел убежать – отказали ноги. Что-то повернулось в его голове. Схватил он тело за ноги и поволок. Спотыкаясь, тяжело дыша, вскрикивая от задуманного, волок он тело в самый дальний угол кладбища, к давно разрытым, но забытым, полу обвалившимся могилам. Хотел сначала просто столкнуть туда, но в последнюю минуту передумал. Начал обшаривать карманы. Вытащил деньги, ключи, документы. Торопливо, при свете спичек, пролистал бумаги и пересчитал деньги, а потом начал раздевать. Почти три часа ушло на то, что бы надеть на себя одежду с тела, а свои лохмотья кое-как напялить на труп…
А потом, среди ночи он закапывал тело в старую могилу…
Лишь к рассвету, грязный, перевозбужденный от содеянного, он вышел с кладбища и пошел искать квартиру, обозначенную в паспорте. Сначала медленно, потом, все более уверенным шагом он шел к теплу, к постели, к горячей воде и прочим благам, от которых успел отвыкнуть настолько, что даже перестал вспоминать, бомжуя, без малого, десять лет.
Глава 2. КАА и ЕП.
…его фотографии в этой папке нет. Только исписанные моим почерком листы, отчеты о проведенных беседах и две заполненных мной же болванки. Год рождения, родители (в графе «отец» – прочерк). Я пыталась его найти, но не смогла. Слишком скудные сведения. Мать не помнит ни имени, ни фамилии. Не помнит или не хочет говорить – не уверена…, не знаю. А дальше, задержания, приводы – почти вся его жизнь, а вот фотографии нет. Хотя, мне она и не нужна.
Его жизнь…. Побеги из дому и возвращения домой. Заброшенная на недели школа и отличные отметки. А еще, он играет на гитаре. В переходах, на улицах, в кабаках – зарабатывает на жизнь. Себе и матери, когда та, в очередной раз остается без денег. Выпивает – да, колется – нет. Часто дерется, очень часто, но за драки не привлекался, а еще…
А вообще, он красив, по-особенному, по-мужски. Идешь с ним по улице – на него все оглядываются, от карапузов в колясках, до бабулек. Первым он улыбается, вторых игнорирует. Так что, идти рядом с ним неудобно…
В папке это, только что дыр нет от частого прочтения…, да. Самая моя большая неудача…
А вот и он – сидит передо мной. Играет на гитаре. Гитара – особый случай. Стоит эта штука – тысяч десять баксов – настоящая фирма. Он с ней практически не расстается. Когда его брали первый раз, повелись на пальцы. Длинные, тонкие, сильные и подвижные – решили щипач. А ладонь к верху повернули, так на пальцах мозоли, твердые, как камень. Играет все, я думаю, и сочиняет, ну должен сочинять, только мне он не признается. Да и с чего? Я для него кто – инспектор по делам несовершеннолетних. Хотя и в юбке, но не женщина, а мент. А он нашего брата не любит. Только меня терпит, это, наверное, единственное, что удалось достичь…
Хотя… Правде надо смотреть в глаза, я не знаю, как это получилось. Ни моей заслуги, ни моей вины в этом нет. Не от моих стараний и трудов это, точно – не от моих.
Год назад, при первой встрече, сидит он вот здесь, за очередной побег из дома и бродяжничество. Видно, что выпивший. Наши ему внушение делают, обещают посадить, а он им заплетающимся языком УК цитирует. Выборочно. И еще что-то о правах детей, и я захожу. Отправляю молодцов наших, и к нему…
Какой я тогда была самоуверенной:
– Что же это ты, молод пить еще…, – тогда эта фраза казалась мне очень удачной, а сейчас, как вспомню – щеки пылают, как у институтки.
Хотя, тогда многих мне удавалось ставить на свое место, брать, так сказать, под контроль. И дело, конечно, не только в словах, тут и интонация, и взгляд – психология, одним словом. А он посмотрел на меня, и взгляд такой, что тут же, на месте бы поклялась, что он спиртного и на дух не переносит. Так он посмотрел, я даже обмерла, он как будто раздел меня, а потом еще и рентгеном заодно просветил, выдержал паузу и с непередаваемой интонацией произнес:
– А у Вас красивые ноги, жаль, что на них эта юбка, – на слове «юбка» ударение, а у меня по спине мурашки.
К слову, мне казалось тогда, что я очень хороша в форме, но в тот момент мне стало в ней тесно. А потом наступил момент, когда я в него влюбилась. По настоящему, по ночам спать перестала. Даже вспоминать стыдно. Потом все прошло, точнее переросло в какую-то безнадежность. А я стала его бояться, чувствовала, как распространяется на меня его власть. Особенно после одного случая.
Пришли как-то дни мои, ну, те самые счастливые, в месяце. А я про эти дела забыла. Трудно объяснить как, это отдельная история, а я забыла. А народу в тот день, как прорвало. Сижу, чувствую – есть контакт, а подняться боюсь, понимаю, что прозевала и кажется, промокла. А напротив бабулька какая-то, пришла жаловаться на внука, который ее обижает. Тут и дел-то на две минуты, а эта бабка талдычит свое. У меня в голове крутится, как я могла забыть, а бабка нудит и нудит. Я медленно закипаю. Вдруг дверь нараспашку. КАА стоит. Глаза блестят, непонятно, то ли выпивши, то ли озорует сегодня. Подходит к бабке:
– Иди мать, все улажено. Начнет чудить, ты ко мне иди или к учителю, – и так он это сказал, что старая быстренько собирается и чуть ли не бегом из кабинета, а при этом еще и благодарит, и здоровья желает и кланяется через шаг.
– Зачем ты, – это уже я. Неудобно мне.
– А это тебе, – как фокусник из-за спины пакет, – надо, – и к двери, – а толпу я разогнал около двери. Все спокойно, – хохотнул и исчез.
Я конечно с ходу ничего не поняла, окликнуть его хотела, но он уже ушел. Открыла пакет, а там, вот, хоть плачь, хоть кусайся, хоть матерись. Прокладки, белье, юбка – полный набор. И ведь, что обидно, пригодилось все. От таких вот демонстраций, которые он иногда мне устраивает, и страх мой перед ним. Я себе всегда пыталась объяснить это, слова вроде нужные нашла. Он чувствует меня, наверное, он и других чувствует, но мне он это всегда дает понять. И обязательно в такой форме, что я потом в шоке. А еще, я понимаю, он говорит мне что-то таким языком. Остается понять, что именно…
Гитара смолкла. Инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант Белова Елена Петровна, посмотрела на сидящего перед ней КАА. Руки лежат на изгибе гитары, свесились, отдыхают. Он молчит.
– Ты зачем пришел, – такое молчание для меня как пытка, и я его нарушаю.
– Тебе это надо, – то ли спросил, то ли ответил КАА.
– О чем ты? – А мне в ответ гитара, резкий, пронзительный звук и снова тишина. Вот и поговори с ним.
– Пойдем сегодня на кладбище, – опять, не разберешься, спрашивает или утверждает. Чего-то он сегодня про кладбище…
– Зачем, – мне тревожно, Господи, как мне тревожно. Что-то в голосе его…
– Это тебе надо. Пришло время разобраться со всем этим, – у меня все обрывается внутри.
Все-все. Как я смогла забыть…. Нет, не так. Я старалась забыть, всеми силами старалась. И мне это почти удалось, удалось забыть, что там у меня дочь… все… косметика по лицу…. Вдруг, в лицо горсть воды. Вода по лицу, по костюму, на бумаги. А вслед за этим рука, как из ниоткуда, но со свежим, накрахмаленным платком…
– Вытри лицо, так лучше…, – эх, на него бы заругаться, выгнать из кабинета, послать к черту…
Никто так со мной не обращается, никому не позволяю. А вот он, он может. Я его боюсь, и, наверное, я его все-таки люблю. Поэтому послушно вытираю лицо. КАА смотрит, отрицательно качает головой, и я ловлю в лицо очередную порцию воды из графина. Следует короткое отбирание у меня платка и оттирание моего лица от дорогой французской помады, туши, румян, иногда кажется, с некоторыми слоями кожи. А он смотрит критически, но остается довольным. Улыбается. Сердце мое заходится от этой улыбки. Такое только для маленьких детей и никогда взрослым, и вот впервые – мне. Наверное, он действительно старше, чем я. Но не года между нами, века, а может, тысячелетия. И это дает ему право…
Берет меня под руку, цепляет на ходу дамскую сумочку, и заталкивает меня в маленькую комнатку с умывальником. Там я обычно переодеваюсь. А в спину мне как приказ:
– Пять минут.
Пять минут на то, что бы отдышаться и переодеться…
– Так, с этим надо заканчивать, – бормочу я себе под нос, – какое он имеет право. Он в лучшем случае, по возрасту, мне младший брат, – в душе зреет что-то похожее на ярость, я внутренне готовлюсь к взрыву, за то, что позволила ему обращаться со мной, как с ровесницей.
Вспоминаю все случаи встреч с ним, и мне кажется, что сегодня он какой-то странный. Я начинаю волноваться…. Прерываю себя, убеждаю, что никакая его странность не дает ему право со мной так…
– Выходи. Время.
– Я еще не…, – ответная реплика не успевает, дверь распахивается. Его руки выволакивают меня из этой комнаты-шкафа. Руки теплые, такие бывают у грудных детишек и… у него. Пауза.
– Что ты притворяешься, – с удивлением оглядываю себя. Все мое возмущение, весь мой внутренний взрыв рассеивается. Все напрасно. Пока я горела глупым гневом, руки мои подчинялись его словам и переодевали меня.
Он поправил пиджак, платочек в нагрудном кармашке. Вдруг резким движением он задирает мне пиджак, а потом принимается просто стаскивать. Я некоторым опозданием, я кажется, взвизгиваю:
– Что ты делаешь!
– Ничего, – бормочет он, – лишнее, – оказывается, что ему не понравилась кобура с табельным оружием. А я привыкла.
Мне приходиться послушно ее снимать, но почему-то медленно. Точнее, это ему кажется, что медленно. Отрывистыми движениями он начинает мне помогать, но когда вмешивается он, я вообще перестаю шевелиться, просто стою и все. Ему тяжело сопротивляться – это отнимает почти все силы. Пусть делает, как хочет, – думаю я. Это похоже на детскую обиду, которая берется почти из ничего, я чувствую, что невольно надуваю губы и…. Получается сплошной детский сад. Его движения из резких, переходят в скользящие. Он возвращает на место пиджак, и его руки вскользь, едва-едва, задевают лицо. Внутри что-то приходит в движение, огонек…. Нет, нет, нет, этого нельзя. И снова резкие, жестковатые движения.
– Идем, – Послушно шагаю. Вдруг вспыхиваю, как говорят, до корней волос. Он догадывается, как на меня действуют его, прикасающиеся ко мне, руки. Возмущена – не то слово. Выдергиваю руки, выхватываю сумку из рук КАА.
– Сама, – задираю голову и опережаю его на шаг, – вот так-то.
– Действительно, так лучше, – это ответ не только на мои слова, но и на все мои мысли – ответ моему внутреннему голосу. Спотыкаюсь.
Иногда мне кажется, как сейчас, например, что я могу одержать победу, хоть такую маленькую, как эта. Иногда… Мой внутренний голос, внутреннее мое я, оно намного умней меня этой, вот уже полгода твердит мне по ночам – сдайся на волю победителя, он точно знает, как надо. Да что говорить, я уверена, что воля победителя устраивает меня полностью. Но…, есть и но… Я ведь ему практически, в мамы гожусь, а усыновлять я его не собираюсь. Да и мать у него, как она посмотрит. Вот и получается, и замуж мне за него не выйти, ни в любовники взять. И дело даже не в его возрасте. Это чушь! Дело в том, что это не я выбираю, не я его беру или не беру. Это все делает он. Точнее, не делает. Не похоже, что он согласен взять…
Я немного кошусь на шагающего рядом КАА. Он идет, вертит головой, приветствует кого-то взмахом руки, кому-то улыбается. Я так понимаю, детишкам. Да и сам, ни дать, ни взять, ребенок из забытой богом провинции – первый раз в Москве. Немного идиотская улыбка, не его – придуманная – периодически появляется на лице. Вдруг все меняется, как и не было. Пачка сигарет, странный трюк с выдуванием сигареты из пачки. Возникающая откуда-то из рукава зажигалка и сигаретный дым выпущенный через ноздри. Черты лица обостряются, делаются угловатыми, колющимися.
Он всегда в зоне внимания. Бабушки с мамашами с неодобрением смотрят, не на него – на меня, принимая за плохую мать, или, хочется верить, за старшую, но непутевую сестру. А малолетки, так те, на него с обожанием смотрят, а на меня с ревностью, к сожалению, совершенно напрасной. Ну вот, пока разглядывала окружающих, потеряла его из вида, он отстал. Вдруг появляется откуда-то из-за спины и идет со мной в ногу.
Лишь на мгновение выпускаю его из вида и снова теряю. Останавливаюсь сама. Он стоит прямо посреди толпы, и что-то тщательно разыскивает, похлопывая себя то одной рукой, то другой по карманам. И вот ведь интересно, его пешеходы обходят, даже касаются редко, а меня моментально оттесняют к бордюру. Мне видно, что он извлекает из кармана какие-то бумажки и денежная мелочь…
Между нами пять-шесть метров, но пока я их преодолеваю, он успевает пристроить гитару, и чуть надтреснутым – опять, не его голосом – обращается к прохожим, чуть слышно. Но внезапно выстреливает гром, на мгновение все замирают, некоторые даже испуганно оглядываются. И хотя начала фразы никто и не услышал, самое главное звучит в абсолютной тишине:
– Люди, браться и сестры, чувствую, как грусть тяжким бременем лежит на ваших душах. Заботы губят душу и морщинят лица. Музыка исцелит вас. Примите ее как лекарство, – начинается музыка.
Все подряд. Есть место и для Пугачевой и для Моцарта. Сенчукова, Вивальди, «Иванушки», «Deep Purple». Вот такой букет, для души.
Я первый раз слышу его на улице. Странноватое ощущение – в кабинете гитара звучит совершенно по-другому, словно с другой душой. Меня охватывает желание забрать его отсюда. Но я не могу, я боюсь вмешаться во что-то важное, что я не понимаю. Если бы я была в форме, то, наверное, вопросов было бы меньше, мне было бы легче. А так, я просто стою и слушаю…
Импровизированный концерт длится минут сорок, может больше. Какой-то мужчина, быстренько снимает с кого-то из прохожих шляпу и обходит слушающих – в шляпу сыплются деньги. Видно, что мужчина знаком со многими на этой улице, даже мне кажется, что я его где-то видела. И лицо знакомо, и косуха эта в цепях, с булавками, этот конский хвост стянутый резинкой, даже этот черный платок, болтающийся на левой руке, где другие носят часы. Я понимаю, что он из металявой братии, хотя меня немного смущает его возраст…. Набирается много. Меньше тысячи не бросали, несколько раз даже мелькали зелененьки…
– Огромное вам спасибо люди. Вам всего самого наилучшего…
Однако, народ не желает расходиться, и тогда КАА исполняет что-то из моего детства. И странно, словно дан какой-то знак, дослушав мелодию до конца, люди расходятся, а на улице, словно становиться светлее. К КАА подходит мужчина в косухе и отдает деньги, точнее протягивает КАА шляпу. Тот выбирает несколько крупных купюр, а остальные отдает назад, при этом они обмениваются несколькими фразами, как давно и хорошо знакомые люди. Слов, правда мне не удается разобрать – я все еще пробираюсь сквозь вновь пришедшую в движение толпу.
Мужчина уходит с деньгами, по ходу вытаскивает какую-то денежку и прямо тут же покупает сигареты, а остальные отдает старушке во всем черном, она собирает на восстановление храма (к слову говоря, именно на восстановление и собирает). Та принимает это с поклоном, что-то говорит мужчине – тот отвечает. В конечно итоге, она благословляет сначала его, а потом и всех присутствующих на улице…
Ну вот, пока глазастилась на эту странную парочку, опять потеряла КАА из виду. Встаю на носочки и верчу головой. Замечаю его поднятую руку – оказывается, он уже успел остановить машину, и теперь о чем-то договаривается с водителем, изредка поглядывает на меня и, наконец, машет рукой. Я пробираюсь через толпу и подхожу к машине. КАА открывает передо мной заднюю дверцу, помогает сесть, потом вручает гитару и хлопает дверью. Сам он садится на переднее сиденье. Машина срывается с места. Мы едем, быстро, но не долго. Машина притормаживает у тротуара, КАА наказывает мне ждать и уходит. С некоторым опозданием я киваю.
Водитель аккуратно рассматривает меня в зеркале заднего вида.
– Хороший парень, – произносит он, заметив, что я поймала его взгляд.
Я в знак согласия слегка пожимаю плечами. Появляется КАА, в его руках огромный букет роз. Похоже, что он обошел и скупил половину рынка, только очень тщательно скупал. Цветы подобраны – только чайные и белые. Цветы он укладывает рядом со мной на сиденье и снова уходит. В следующий раз КАА возвращается с пакетом. Садится на место, кивает водителю. Мы снова едим…
А я его знаю, то есть узнаю, водителя. Да из штрафов, которые он втихую отстегивает нашему брату, некоторые делают серьезные заначки. Но не в этот раз – машина аккуратно двигается по дороге, где положено – притормаживает, кого положено – пропускает, не водитель, а чистый ангел за рулем.
Водитель и КАА курят. Я сижу в обнимку с гитарой. Думаю…
Почему он так легко управляет мной. Все другие просят, а он даже не приказывает, так, бросает фразу через плечо, а я, как заговоренная, подчиняюсь. Хотя, в последнее время, мне все реже и реже хочется сопротивляться. Я конечно вида не показываю, стараюсь, чтобы было как раньше. Только, это ерунда, как бы я не старалась скрывать свои чувства и мысли, он все знает. Иногда мне хочется думать, что он тоже неравнодушен ко мне. Только мечты эти очень быстро обрываются. У них нет будущего. Мне с ним не быть. Я хотела бы, что бы только не отдала, но я старше его. Да и не согласится он…
Мне становиться страшно от мысли, что когда-нибудь наступит момент, когда он уйдет. Я без него уже не могу. С тех пор, как он появился, у меня словно пелена на глазах… точнее, наоборот, словно спала пелена. Мир в других красках предстал передо мной. Хуже он стал от этого, или лучше – не знаю. Но то, что мир станет тусклым без него – я уверена. Он и теперь тускнеет, если КАА нет рядом. А заходит он редко, и что греха таить, я ведь жду его постоянно. Сижу в кабинете и жду. Работа теперь для меня лишь способ отвлечься от ожидания. Все эти малолетние правонарушители, мальчишки и девчонки, постоянно напоминают его, то жестом, то словом. Иногда я думаю, что у меня что-то вроде паранойи. И еще одно я знаю – как только мы расстанемся, я заболею, а потом и вовсе – умру. Или сойду с ума…