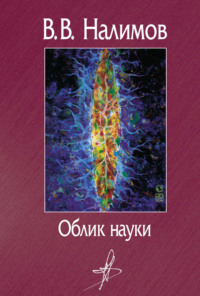Полная версия
Прошлое в настоящем
Эти слова о диалектике языка веры производят удивительное впечатление. Но на этом языке, конечно, ничего не может быть ни доказано, ни опровергнуто, ибо здесь нет логики. Истина может быть только высказана – дело каждого ее понять… имеющий уши да слышит.
Я начал читать книгу П. Флоренского, конечно, не с начала, а с главы VII – Письмо шестое: Противоречие и к своему большому огорчению увидел, что все остальные главы и многочисленные и интересные разъясняющие примечания написаны совсем в другом – православно-догматическом ключе. Где-то автор, конечно, обращается к толкованию отдельных положений Писания как антиномий, но далее идут однозначные – безусловные и беспрекословные выcказывания о различных вопросах богословия. При этом оказывается, что только православие является вселенским, «а ересь – по существу своему партийна» (с. 161), а о католицизме Флоренский говорит такими словами:
Если протестант уничтожает Христа, то католик желает надеть на себя личину Христа. Отсюда, далее, чувственный характер богослужения, драматизм, открытый алтарь (алтарь – сцена, литург – актер), пластика, чувственная музыка, мистика не умная, а воображательная… (с. 723).
Это характеризует стиль книги.
Современный европейский человек не может мыслить не по-европейски. Диалектическими были только тексты совсем раннего христианства, еще не искаженные все подавляющим влиянием аристотелианства. Как удивительно, что богослов с математическим образованием увидел со всей отчетливостью неаристотелевский характер христианских первоисточников. Современный экзистенциализм – особенно его религиозная ветвь – не есть ли это, прежде всего, попытка вернуться к языку, свободному от деспотизма логики? И какое сопротивление это вызвало у официальных представителей западной церкви [Додейн, 1974], [Кузмицкас, 1976], воспитанных на традициях, идущих от Фомы Аквинского – великого толкователя и вульгаризатора Аристотеля. Томизм как интерпретация христианской доктрины – не есть ли это самая большая или, может быть, самая великая антиномия из тех, с которыми столкнулось человечество в своем творческом поиске?
15. Структура сознания в европейской культуре
В работе А. Дейкмана делается попытка связать возникновение мистического состояния сознания с деавтоматизацией нашего обычного логически структурированного дневного сознания. Он пишет [Deikman, 1963]:
Кто-то может соблазниться возможностью объяснить эту деавтоматизацию возвратом к детскому или младенческому восприятию и познанию (с. 33.)
Но вместо того, чтобы говорить о возвращении в детство, правильнее было бы сказать о том, что выход за пределы автоматически действующей структуры восприятия и познания увеличивает интенсивность и богатство переживаний за счет абстрактной категоризации и дифференциации (с. 34).
Мистический опыт является продуктом необычного состояния сознания. Оно возникает в результате деавтоматизации иерархически упорядоченных структур, которые в обычном состоянии сохраняют энергию концентрации на уровне максимальной эффективности для достижения основных целей индивидуума: его биологической выживаемости как организма и психологической выживаемости как личности. Отбор чувственных восприятий и структурирование сознания оказываются на службе у этих целей. В условиях дисфункционирования, вызванного состоянием острого психоза, приемом LSD или возникновением особых целей, скажем, в религиозном мистицизме, прагматическая система автоматической селекции отходит в сторону или нарушается в пользу других альтернативных систем сознания, при которых переработка стимулов может оказаться менее эффективной с биологической точки зрения, но именно эта неэффективность позволяет получить тот опыт восприятия реального мира, который ранее исключался или игнорировался (с. 43).
Такое биолого-эволюционное и глубоко прагматическое объяснение возникновения нашего обыденного, логически структурированного сознания кажется весьма интересным. Здесь уместно напомнить идеи Канта об априорных, т. е. данных вне опыта, формах и категориях, организующих наше восприятие мира. К ним относятся и пространственно-временные и причинно-следственные представления. Кант считал их врожденными, сейчас их уместно интерпретировать как созданные в процессе эволюции и, возможно, как-то генно закрепленные. Опыт изучения особых состояний сознания хотя бы косвенно подтверждает правомерность кантовских взглядов. Оказывается, что в измененном состоянии сознания нарушается логика причинно-следственных связей, изменяется временная шкала – время может удлиняться или укорачиваться, или ощущение времени может вообще исчезнуть (см., например, [Krippner, 1963], [Anonimous, 1963]; трехмерность пространственного восприятия также может изменяться – гипнотизируемому можно внушить, что мир двухмерен, и тогда все в его сознании как бы сплющивается, становится плоским; или, наоборот, можно внушить, что рамки трехмерного пространства расширяются (подробнее об этом см. в [Aaronson, 1963]); если хотите, все это можно интерпретировать как экспериментальное подтверждение того, что кантовские формы и категории, задающие структуру нашего сознания, могут быть произвольно изменены. Интересна здесь и одна деталь – внушение двухмерности мира подавляет психику субъекта, а расширение границ трехмерности действует в благоприятном направлении.
Попробуем сейчас несколько подробнее рассмотреть вопрос о прагматической эффективности логической структурированности нашего сознания. Мы отчетливо видим, что научно-технический прогресс оказался возможен в той ветви человеческой культуры, где преобладающее значение приобрело рефлективное мышление. Никто, наверное, не будет утверждать, что логический анализ сам по себе дает возможность устанавливать истины. Но с помощью логических построений удается создавать интеллектуальные поля-парадигмы, в рамках которых возможен интенсивный обмен мыслями, объединяющий усилия творчески активных людей. Так создается целенаправленное коллективное поступательное движение и прорыв.
Трудности формирования культуры с внелогическими формами коммуникации легко проследить на примере истории христианства.
Интересно посмотреть на то положение, которое занимало христианство в момент своего возникновения на фоне утонченной логической мысли эллинизма. Христос на допросе у Пилата говорит: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин 18, 37). Тогда Пилат задает следующий вопрос: «что есть истина?» (Ин 18, 38). Этот вопрос остается без ответа. В другом месте Христос говорит: «Я есмь путь и истина, и жизнь» (Ин 14, 6), и мы понимаем, что Христос и не мог иначе ответить – для мистического, логически не структурированного сознания познание истины – это слияние с ней. Но почему другие должны были признать, что Христос и есть истина? На этот вопрос дается четкий ответ:
Ин 5, 36 …ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
Ин 10, 25 …Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
Ин 10, 37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне.
Ин 10, 38 А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим…
А как узнать, что истины достигли другие? Этот вопрос, видимо, волновал Христа, и он не раз говорит о лжепророках. И опять-таки, только по делам их можно будет узнать их:
Мф 7, 15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные:
Мф 7, 16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
Мф 7, 17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые.
Мф 7, 20 Итак, по плодам их узнаете их.
И в другом месте:
Ин 13, 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Мы видим, что отнюдь не диалог и не дальнейшее развитие идей оказывается критерием признания истинности. Хотя в раннем христианстве появилось и иное направление мысли – гностицизм [Jonas, 1958], в котором истинность сложных философских концепций вытекала уже из своеобразного сочетания логического развития мысли с мифологическими построениями. Но гностицизм не выдержал борьбы с нефилософствующим христианством и ушел в подполье европейской мысли44.
Интересно попытаться хотя бы совсем коротко рассмотреть логическую структуру Евангелий. И здесь, как это ни странно, уместно сравнение с математикой. Особенность математики как единой науки заключается в том, что там основой всех построений являются математические структуры – краткие, лаконично сформулированные системы постулатов, в которых имплицировано все содержание того или иного раздела математики. Аналогично, в четырех канонических Евангелиях в удивительно компактной форме имплицировано все официально признанное учение Христа. Но если в математических структурах нет хотя бы грубо выявляемых противоречий, то в Евангелиях можно найти сколь угодно много взаимоисключающих высказываний. Содержание математических дисциплин, имплицированное в их структурах, эксплицируется некоторым единым образом в доказательстве теорем. В отличие от этого, содержание, имплицированное в четырех Евангелиях, разъясняется во множестве не согласующихся и расходящихся между собой вероучений. Все разветвления христианства – это различные толкования одного и того же источника. Нет и не может быть построено критерия, позволяющего признать, какое из этих вероучений имеет право считаться истинно христианским (отсюда и все трудности в герменевтике христианства [Pye, Morgan, 1973]). Возможность появления все новых и новых интерпретаций христианства делает его очень подвижным, позволяя приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и к эволюции всей европейской культуры. Но здесь важно отметить, что всякая интерпретация Евангелий всегда основывалась лишь на части имеющихся там высказываний, но никогда на всей их полноте. Видимо, принципиально нельзя вложить всю полноту неизбежно внутренне противоречивых высказываний четырех Евангелий в какую-то завершенную схему. Хотя такие попытки делались. В работе [Pailin, 1973] упоминается об одной такой попытке, сделанной в Англии С. Кларком в начале ХVII века. Изучая проблему Троицы, он выписал под разными заголовками 880 относящихся сюда различных текстов из Нового Завета и попытался дать доктринальную импликацию того откровения, которое явно содержится в Священном Писании. Эта попытка, естественно, была осуждена…
Тому, кто пытается провести непредвзятый логический анализ истории христианства, бросается в глаза, что развитие христианской мысли шло путем многообразно варьируемого разъяснения языковыми средствами того, что было заложено в первоисточнике, хотя там это и не было предусмотрено.
Было бы очень интересно проследить эволюцию структуры сознания в европейской культуре, но сделать это очень трудно, поскольку процесс развития прошел очень сложный и извилистый путь. Можно думать, что на каких-то этапах имела место некая сбалансированность между логическим структурированием сознания и способностью непосредственного обращения к континуальным потокам. Во всяком случае, схоласты – мыслители Средневековья, будучи духовными лицами, регулярно принимали участие в религиозных мессах. Правда, здесь уже наметилась тенденция к рационализации религии. В католицизме появилось утверждение о том, что Бог как чистое бытие рационально доказуем и в какой-то мере рационально познаваем. Этому противостояло протестантство с его попыткой возродить крайние формы индивидуалистического самоуглубления и психологизировать всю теологию. Но по мере приближения к нашим дням западная культура все больше и больше погружается в логически четко очерченные формы сознания. Логически структурированное сознание становится доминирующим проявлением культуры. Но уже в XIX веке, и особенно в начале XX века, начинается предостерегающий протест: Кьеркегор, Ницше… экзистенциализм. И здесь особенно интересен русский философ Л. Шестов (1866—1938) с его ориентацией на существование в противовес мышлению, борьбой против гипнотизирующего разума и изобличением искусственно лишенного души человека в век господства науки и техники (о Шестове см., например, интересно написанную статью Р. Гальцевой [1973]).
Экзистенциализм стремится противопоставить весь научно-технический прогресс психофизиологической и духовной природе личности. Перед нами философия «дологического единства» с окружающим миром, «осознания без знания», «возврата к самим вещам», выраженная в творчестве «бытия, говорящего в нас». Подробнее см., например, [Тавризян, 1975], [Долгов, 1975]. Но сциентизм продолжал свой победоносный путь. Одним из уродливых и трагически обернувшихся проявлений антисциентизма был и нацизм с его тайным проявлением мрачного мистицизма (см., например, [Ravenscroft, 1973], [Pauwell, Bergier, 1961]) и открытым иррационализмом. Но теперь это все позади. И вот новая осечка – вдруг мы встречаемся в американской литературе с жалобами на то, что существующий стереотип мышления стал сковывать творческие возможности. У С. Криппнера читаем [Krippner, 1963]:
Некоторые психоаналитики комбинируют гипноз с попытками стимулировать творческую активность своих пациентов (с. 273).
Можно думать, что стереотипное мышление есть неизбежный результат культурной индоктринации. По мере того, как растущий ребенок обучается видеть мир глазами культуры, он теряет свое индивидуальное мироощущение, становясь менее оригинальным, менее открытым новому миру, менее склонным к воображению (с. 276).
Чтобы освободиться от стереотипа логически структурированного сознания, в США стали широко использоваться запрещенные законом психоделические средства. Ч. Тарт сообщает, что по различным оценкам в 1967 году от одного до трех миллионов американцев принимали LSD-25 или аналогичные психоделические средства; особенно широко, говорит он, эта практика распространена среди студентов [Tart, 1963а].
Наверное, можно согласиться с тем, что подлинное творчество, где бы оно ни происходило – в философии, науке или искусстве, – всегда связано с выходом за пределы существующей парадигмы. И талантливым, а тем более гениальным, оказывается именно тот, кто обладает такими способностями. Но если для выхода из парадигмы своей собственной культуры приходится применять искусственные, идущие извне средства, не указывает ли это на то, что давление стереотипов парадигмы стало гнетущим? Такие внешние средства стимулирования, как гипноз и психоделики, конечно, удобны тем, что легко позволяют вернуться назад – под покров того, что не удается преодолеть в полной мере. Но не является ли это признаком обветшалости западной культуры?45
Наконец, здесь уместно напомнить и о движении за создание новой культуры – «культуры человеческого объединения», получившей отклик среди части американской молодежи [Reich, 1971]. Это попытка создания культуры без слова. Главным средством коммуникации оказывается музыка, фантастическим образом усиленная современными электронными средствами. Эффект музыкального воздействия умножается совместными квази-ритуальными действиями и приемом химических препаратов. Разыгрываются новые мистерии, объединяющие людей в их попытке непосредственно прикоснуться к континуальным потокам сознания. Это уже открытый вызов современной западной культуре – культуре слова. По классификации Райха, это новое проявление становится третьем сознанием Америки [ibid.].
Заканчивая параграф, хочется обратить внимание еще на одну особенность европейской культуры – на синдром стресса. Может быть, доминирующие болезни являются одной из характеристик культуры? Сейчас многим представляется, что болезни нашего времени задаются стрессом. Но откуда берется сам стресс? Не возникает ли он в результате драматически нарастающего противопоставления логичности – абсурдности? Со школьных лет и дальше нам внушают, что все в жизни логично. Кого бы мы ни взяли – Маркса и Плеханова, Шпенглера и Тойнби, Флоренского и Бердяева, – все они нам говорят о каких-то закономерностях, а иные – даже и о смысле всего когда-либо происходившего. С детских лет нас учат логически анализировать все художественные произведения и все содержащиеся в них ситуации так, будто все в нашей жизни и даже в самом интимном ее проявлении подчинено логике, пусть даже фрейдовской. А в жизни – как в крупных, так и в мелких ее проявлениях мы все время сталкиваемся с абсурдом – везде: в деловой обстановке, в транспорте, магазинах, дома. Мы оказываемся перед лицом абсурда, который воспринимаем сквозь призму логического и логикой пытаемся победить. Безрезультатность такой борьбы очевидна. Не отсюда ли и стресс?
Интересно, люди других культур так же возмущались, как все, как мы, или спокойно принимали все, как есть? «В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит» (Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат). И почему, собственно, все должно быть логичным? Логика – это часть риторики, средство коммуникации. Почему же жизнь должна быть устроена, как наша риторика?
Картины сюрреалистов – не есть ли это попытка показать абсурдность сквозь композиционно ожидаемую разумность? Символическое отображение видения абсурдности в жизни. Этим они, может быть, так и привлекательны. А что же Босх – увидел все это еще тогда, давно, сквозь погруженность в религиозное сознание? И это видение ему простили, сохранили до наших дней. Вот предо мной изумительная повесть Ежи Анджеевского Врата рая [Andrzeyewski, 1963] – это характеристика детского крестового похода как абсурда. Может быть, наиболее яркое описание всеобщей, вневременной абсурдности жизни дано в романе В. Набокова Приглашение на казнь. А нацизм – трагедия, разыгравшаяся на наших глазах, – разве это не абсурд в масштабе историческом? С проблемой абсурда во всей ее остроте, по-видимому, столкнулись католические мыслители. Вот как трактовку абсурда у христианских авторов в книге [Earl et al., 1963] пересказывает Бронюс Кузмицкас [1986]:
В этом мире временности и историчности человек радикально свободен, ему всегда предстоит радикальный выбор. Он может подчинить свою жизнь и окружающий ее мир своим временным желаниям, он может свои силы и желания направить и к самопожертвованию, к трансцендированию самого себя. Во всяком случае, при выборе имеется доля неуверенности и риска, так как мир человека имеет различные «логики», он включает также абсурд как постоянное измерение нашего опыта, поэтому разум не может быть надежным руководством в жизни. Абсурд не может быть преодолен разумом, на него дают ответ только вера, решимость действовать и создавать. Христианство всегда, наряду с таинством, раскрывает и абсурдность человеческих дел, а ответом на абсурдность может быть только вера (с. 147—148).
Это, безусловно, любопытный взгляд на абсурдность, важный, прежде всего, тем, что здесь абсурдность признается как одна из составляющих поведения человека и ищется путь ее преодоления. Возможна и такая интерпретация: жизнь нас все время сталкивает с «коанами», нам не удается разрешить их на континуальном уровне, а на логическом уровне это воспринимается как абсурд.
От себя я добавил бы следующее – ни одна культура, наверное, не знала такого количества всевозможных протестантских движений, как европейская. И вcе это было проявлением борьбы логичности против накопившегося и застоявшегося абсурда. В этом, видимо, историческая миссия европейского рационализма… А в наши дни – стресс.
16. Правомерна ли гипотеза о субстанциальном существовании «полей сознания»?
There is one mind common to all individual men46.
R.W. Emerson. HistoryКак это ни странно, но сейчас уместно вернуться к обсуждению издревле известной гипотезы о субстанциальном существовании «полей сознания» вне человека. Осмысление всего многообразия сведений о роли измененных состояний сознания в интеллектуальной жизни позволяет снова поставить вопрос о том, является ли человек творцом континуального мышления или только преемником тех потоков, которые протекают где-то вне его. Если справедливо второе предположение, то все усилия человека, направленные на восприятие этих потоков, – медитации, прием психоделических средств, участие в мистериях или, наконец, умение задавать самому себе вопросы на языке дискретных представлений и ждать на них ответа – все это только различные способы настраиваться на прием.
Представление о субстанциальном характере континуального сознания, глубоко связанное с философскими учениями Востока, не чуждо и западным философским воззрениям. В каком-то смысле оно напоминает учение об идеях Платона, представление о мировой воле Шопенгауэра и идеи Юнга об архетипах в коллективном бессознательном. И если Судзуки [Fromm et al., 1960] говорит о Космическом бессознательном, то Фромм [ibid.], следуя Бёкку47, предпочитает уже говорить о Космическом сознании.
Сейчас нет необходимости соотносить эти построения с беспредметным и одинаково чуждым нам идеализмом, поскольку современные космогонические концепции готовы к безграничному расширению нашего представления о материальности Вселенной. На современном языке уместнее говорить о некоторых новых не известных нам полях, ответственных за континуальные составляющие сознания субъекта. Наше внимание здесь привлекает признание некоторых основ индивидуального сознания, лежащих вне его.
Какие же аргументы имеются сейчас в пользу гипотезы о субстанциальном существовании «полей сознания», связывающих сознание отдельных субъектов в нечто единое?
Прежде всего, здесь нужно еще раз напомнить об уже упоминавшемся выше опыте изучения того измененного состояния сознания, при котором человек теряет ощущение границ своей личности и воспринимает себя как часть недифференцированной целостности. Что это – только иллюзия? Очень интересны опыты по так называемому взаимному гипнозу [Tart, 1963b]. Он состоит в том, что субъект А гипнотизирует субъекта В, а последний, будучи в состоянии гипноза, в свою очередь, гипнотизирует А – эта процедура взаимного гипнотизирования повторяется несколько раз, при этом состояние гипнотизированности углубляется. Наиболее впечатляющим и пугающим пациентов результатом такого эксперимента было ощущение полного слияния друг с другом. Вот что пишет об этом Ч. Тарт [ibid.]:
Это было похоже на частичное расплавление личности, на частичную потерю различия между Я и Ты. В тот момент пациенты воспринимали это как нечто приятное, но затем они стали оценивать это как угрозу их индивидуальной автономности (с. 306).
Далее Ч. Тарт сообщает, что ему известен и аналогичный результат слияния и потери индивидуальностей при совместном приеме LSD двумя супружескими парами. Что-то похожее, по-видимому, происходило в мистериях древности и в тех «мистериях», которые сейчас пытаются возродить в Америке, сочетая оглушающую музыку с приемом химических средств. И опять хочется здесь задать вопрос – что это, только иллюзия или выход в непривычную для нашей культуры реальность? В этом отношении очень интересны наблюдения Юнга, выявившего древнейшие мифологические мотивы в снах современных людей и показавшего сходство между бредом параноиков и древнейшими космогониями и эсхатологическими пророчествами [Аверинцев, 1970]. Откуда берутся эти архетипы – древние общечеловеческие образы?
Не менее интересной нам представляется и техника телепатии в ее тибетском преломлении (см. § 11 этой главы). Там все выглядит так, будто телесвязь осуществляется через некоторые межличностные астральные поля.
И последнее: представление о научном творчестве как об озарении – не есть ли это другая форма проявления того же обращения к чему-то существующему вне нас?
Конечно, все эти наблюдения явно недостаточны для того, чтобы сколько-нибудь убедительно обосновать гипотезу о субстанциальном существовании потока образов вне человека. Но они, во всяком случае, достаточны для того, чтобы считать правомерной ее постановку для дальнейшего серьезного изучения.
Нам могут здесь сразу же возразить: если субстанциально существующие континуальные потоки – это кладовая нашей культуры, так же как и всех других культур, то откуда же берется прогресс? Частично ответить на этот вопрос мы уже пытались выше, когда говорили, что люди могут зачерпнуть из этой кладовой только то, к чему подготовлено их дневное сознание – то сознание, на котором строится культура. Может быть, прогресс и состоит в подготовке сознания к восприятию идей из этих протекающих вне его потоков? Странно, но сейчас приходится задумываться над концепциями далекого прошлого.
Можно, конечно, выдвинуть и другую гипотезу, предположив, что особое состояние сознания – это некоторое реликтовое явление, оставшееся у нас в четко закодированном виде от того далекого прошлого, когда сознание человека находилось еще на примитивной стадии своего развития. Но здесь немедленно возникает масса неразрешимых вопросов: почему в начальной стадии развития могли появиться такие многообразные и внутренне необычайно богатые проявления сознания; зачем они сохраняются до сих пор в нашем подсознании и, главное, почему они проявляют себя так, что мы должны их считать какими-то более глубокими уровнями сознания, питающими и регулирующими наше логическое мышление? И, наконец, если это не результат личного опыта, не отражение внешнего мира, а нечто закодированное более или менее одинаковым образом у всего человечества, то чем это представление отличается от гипотезы о независимом от человека субстанциальном существовании континуальных потоков сознания?