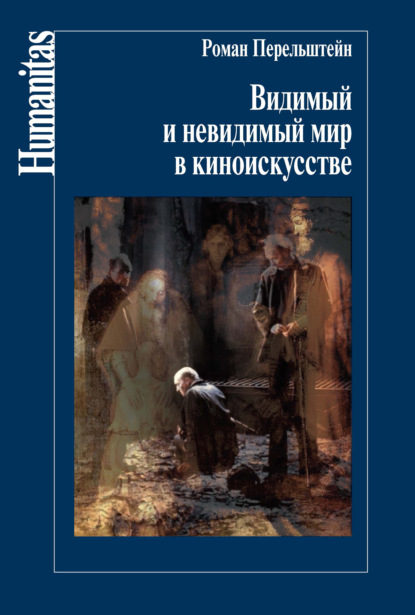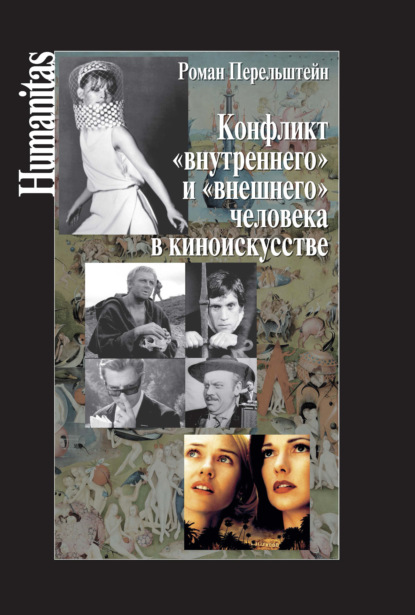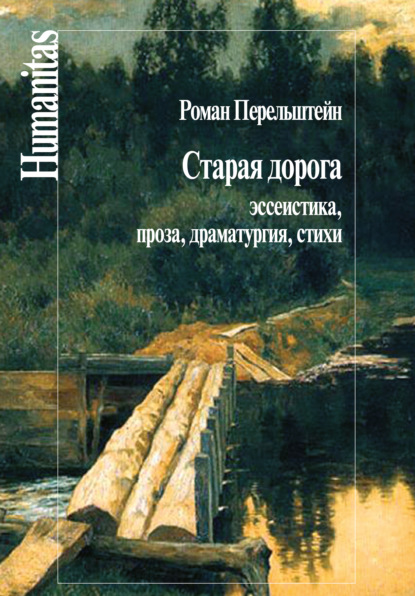Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография

Полная версия
Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография
Жанр: учебная и научная литературакультурологиямонографиигуманитарные и общественные наукиисторическая научная и учебная литературапрочая образовательная литератураистория Россиирусская культураистория культурытеория культурымассовая культуразнания и навыкикультурологические исследования
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу