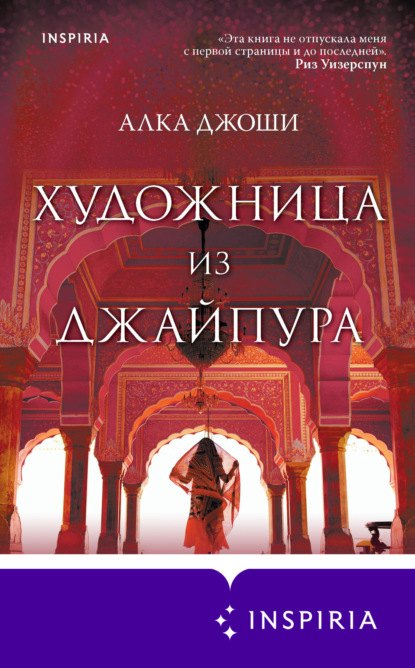Полная версия
Пандора
Камни блестят, точно крошечные глазки.
– Они тебе нравятся? – тихо спрашивает Корнелиус.
– О да, конечно, но…
– Перестань! – перебивает его Корнелиус не терпящим возражений тоном. – Мне просто хотелось поднять тебе настроение.
Эдварда так и подмывает упрекнуть друга, но Корнелиус на него не смотрит. Он пристально изучает орех, зажатый у него между двух пальцев. По выражению лица друга Эдвард понимает, что спорить с ним бесполезно и что от его благодарностей Корнелиус отмахнется, как от надоедливого ребенка.
Корнелиус… Как-то раз он с ехидной усмешкой назвал себя ангелом-хранителем Эдварда, и это определение было недалеко от истины. Если бы не Корнелиус, сегодня Эдвард не сидел бы здесь. «Благодетель» – слово возникает в мозгу у Эдварда, прежде чем он успевает отогнать его, и оставляет горький привкус во рту. Избавится ли он когда-нибудь от этих благодеяний?
Эдвард закрывает шкатулку с запонками и аккуратно ставит ее на столик рядом со своим креслом.
– После того как мы вчера расстались, я встретил в кофейне одного джентльмена, – Эдвард рассказывает об этом, чтобы сменить тему. – Он мне кое-что предложил.
Корнелиус отрывает пристальный взгляд от ореха:
– Что же?
Эдвард отпивает глоточек бренди из бокала. Вкус у напитка резкий, почти обжигающий, и, когда жидкость проливается вниз по пищеводу, он ежится.
– Известно ли тебе что-нибудь о семействе Блейк?
– Как-как?
– Блейк, – с нажимом повторяет Эдвард, подавшись вперед. – Элайджа Блейк с женой торговали древностями на Ладгейт-стрит лет двенадцать назад или около того.
Корнелиус усмехается.
– О, Эдвард! Двенадцать лет назад мы были… – Он осекается, словно спохватываясь, и отводит взгляд. – Откуда я могу знать кого-то, кто жил так давно?
– Но ты же наверняка слышал о них позднее? Они были признанными знатоками антиквариата и трагически погибли, скорее всего, на раскопках. После них осталась лавка, которой сейчас владеет брат Элайджи. Иезекия – вроде бы так его зовут.
Корнелиус насупившись глядит в свой бокал, и на лице у него возникает хорошо знакомое Эдварду выражение. Между бровей прорезается морщинка, губы скользят по краю бокала. Разговор явно задел некую тайную струну в его душе.
– Они занимались греческими древностями, – уточняет Эдвард с надеждой в голосе.
Корнелиус нехотя кивает.
– Теперь я что-то припоминаю. Блейк… Я слыхал про одну художницу – Хелен, так ее, кажется, звали. Уильям Гамильтон[21] иногда, в отсутствие Тишбейна[22], просил ее рисовать вазы из его греческой коллекции. – Корнелиус отпивает глоток и затем, подержав бренди во рту, глотает. – Возможно, это та самая. А что?
– Этот джентльмен… – тут Эдвард, краснея, умолкает, – поинтересовался, отчего я столь печален. Я ему объяснил, что произошло. Вот тогда-то он и посоветовал мне найти их дочь Пандору Блейк в лавке древностей на Ладгейт-стрит. Он намекнул, что там-де я смогу получить то, что ищу. Нечто, к чему Общество отнесется весьма благосклонно.
Корнелиус озадаченно смотрит на друга.
– О, ради всего святого, Эдвард, неужели ты и впрямь надеешься на то, о чем тебе поведал некий незнакомец в уличной кофейне?
Горящие поленья в камине громко трещат, точно в знак согласия с негодованием хозяина. Эдвард насупливается. Он чувствует обиду и ничего с собой не может поделать.
– Знаю, это звучит безумно, но в нем было нечто такое… Я не могу этого объяснить.
– Но нельзя же полагаться на советы незнакомцев.
– Ты, как всегда, циничен.
– Ну, правда же!
Корнелиус перебрасывает облаченные в одни чулки ноги через подлокотник кресла и тянется ближе к огню. Полураздетый, с черным локоном, упавшим на лоб, он напоминает Эдварду портрет эпохи Ренессанса, кисти, скажем, Микеланджело. Корнелиус делает рукой с бокалом жест в сторону Эдварда.
– Незнакомый человек говорит, что тебе нужно обратиться за советом к девушке, чьи покойные родители изучали греческую керамику. Но тебе же известно, что Общество больше не интересует искусство Средиземноморья. Гоф ясно дал понять, что сейчас надо сосредоточить свои усилия на британской истории. Древний мир уже и так изучен вдоль и поперек.
– Но в нем так много ценного…
– Разумеется, – набычившись, произносит Корнелиус, – но…
– В конце концов, вспомни о недавних раскопках близ Помпей.
– Да, но там были обнаружены ценнейшие находки. Общество едва ли осталось бы равнодушным к таким же внушительным открытиям.
– Корнелиус, – смиренно говорит Эдвард. – Я надеюсь, что эта девушка располагает чем-то весьма ценным, чем-то заслуживающим серьезного исследования.
В ответ его друг лишь стонет:
– Эдвард, но им не нужны греческие артефакты! Если ты этим займешься, то обречешь себя на очередную неудачу!
– Да, если я решу что-то делать в этом направлении. Но я еще даже не говорил с ней.
– А ты твердо намерен с ней встретиться?
– Я чувствую, что теперь, когда эта идея запала мне в душу, я не смогу от нее отказаться.
И наверное, в сотый раз за сегодняшний день Эдвард думает о разговоре с седовласым стариком – о том, какая это была удача, что они столь случайным образом встретились. Но все же как странно, что старик знал его имя…
Корнелиус громко вздыхает, снимает ноги с подлокотника и ставит их на пол так, что голова тигра оказывается ровнехонько между ними.
– Думаю, это ошибка, – предостерегает он Эдварда. – Твои рассуждения основываются только на случайной встрече. Сосредоточься на чем-то другом, на чем-то более конкретном, бога ради!
Эдвард резко, со стуком, ставит бокал на стол.
– Я отказываюсь считать эту встречу случайной.
Он слышит в своем голосе решительные нотки, и на мгновение его охватывает чувство вины, как будто он сказал нечто неуместное, но выражение лица Корнелиуса уже смягчилось и теперь он качает головой не удрученно, а покорно.
– Ты всегда был мечтателем. Бог свидетель, я пытался тебя образумить.
Он отпивает изрядный глоток бренди, кадык его при этом ходит ходуном. Корнелиус смотрит на Эдварда ласково, но в его взгляде таится еще что-то, чего Эдвард не в силах распознать.
– Я просто не хочу, чтобы ты испытал разочарование. Опять.
– Я знаю, что делаю, – мягко возражает Эдвард. В этот самый момент он преисполняется слепой веры в свои слова, ощущает необъяснимую уверенность в себе. Но Корнелиус держит бокал на коленях и кончиком языка облизывает нижнюю губу.
– Иногда, Эдвард, я в этом сомневаюсь.
Глава 9
Пошел снег. Насколько хватает глаз, все лондонские крыши запорошены белыми хлопьями. Чайки привечают низкие облака горестными криками. Дора в своей чердачной комнатушке лежит на кровати, закутавшись в кокон одеяла, прижав колени к животу. Она вытягивает немеющие на холоде пальцы, а потом еще крепче сжимает карандаш. Покуда она рисует, Гермес расхаживает взад-вперед по изголовью кровати, цокая когтями по дереву. Пламя свечи трепещет на легком сквознячке, пробивающемся сквозь щели в оконной раме, давно уже требующей починки, и на потолке пляшут блики и тени. На полу валяются отвергнутые эскизы – листки бумаги, скомканные в компактные шарики размером с Дорин кулак, – ее неудачные попытки воплотить задуманное.
Она никак не может сосредоточиться.
Ее нынешняя попытка – серия рисунков, которая выглядит так, будто сделана детской рукой. Окаймление в виде меандра[23], чьи зигзагообразные изгибы прорывают бумагу там, где на карандаш давили слишком сильно. Изящные опахала из птичьих перьев. Каскады волн. Переплетенные змеи. Цветочные мандалы. Все эти узоры напоминают о Греции, но пока что ни один из рисунков не передает образы, возникшие в воображении Доры. Каждый эскиз отражает лишь ее горькое разочарование и те смутные воспоминания, от которых она не может избавиться.
Дора вздыхает. Выполнять подобные узоры нужно легко, так, будто это ее вторая натура, но сегодня ничего не получается. Ее мысли улетают в подвал, в недрах которого сейчас обретается таинственное приобретение Иезекии.
Дом вздыхает и постанывает всеми своими перекрытиями.
Дядюшки за ужином не было. Служанка подала Доре миску водянистого супа и выскользнула из столовой, не проронив ни слова. За весь вечер Дора не видала ни Иезекию, ни Лотти, не знала, где они и что они.
Чем заслужила Лотти быть посвященной в планы Иезекии, тогда как его родная племянница к ним не допущена? И что в том ящике? Почему Иезекия так перепугался, когда Дора этим поинтересовалась? И кто те люди, что принесли в дом груз?
Возможно, ей удастся взломать замок в подвал…
О, да зачем ей думать об этом? Ей-то что с того? Перестань, говорит себе Дора, это сведет тебя с ума!
Она пытается вспомнить в подробностях то место раскопок в Делосе. Тогда Дора была совсем маленькая – лет пять, не больше, – но она отчетливо помнит тот день, когда папенька провел много часов, расчищая древнюю мозаику. Пока он большой кистью смахивал пыль и песок, Дора сидела рядом, завороженная открывшимися изображениями: затейливые листья, бурные морские волны, треугольные ступени. Она помнит, как отец показывал ей – низкий ласковый голос до сих пор звучит у нее в ушах – повторяющиеся орнаментальные мотивы: вот розетты, а вот крученые пальметты. А это что, неужели голова быка среди листвы?
Нет, это никуда не годится. Дора со стоном вырывает лист из альбома. За последние пять минут ей только и удалось что нарисовать вьющуюся в углу страницы виноградную лозу, так что она комкает лист бумаги и швыряет на пол, где он закатывается в кучу других таких же бумажных шариков. Ни одна из ее закорючек не годится ни для колье, ни для серег, ни для какого-то другого украшения, которое стала бы носить великосветская дама.
– Ох, Гермес, – вздыхает Дора. Сорока с тихим стрекотом спархивает к ней на колени. Девушка протягивает руку, гладит сорочью голову тыльной стороной пальцев. Птица осторожно прихватывает их клювом. – Может быть, я просто дура? Что же мне делать?
Доре известно, что сорока не может ее понять, но когда птица склоняет голову набок и черные глазки-бусинки разглядывают ее со всем вниманием, она убеждается: может! Но потом Гермес расправляет крылья и начинает самозабвенно чистить клювом перья, а Дора бессильно падает на подушки и постукивает карандашом по губам. Совершенно очевидно, что она не сможет пробудить свое воображение, сидя в четырех тесных стенах. Дора мучительно вспоминает, нет ли чего такого в магазине, что могло бы ее вдохновить. Вроде бы где-то на задах стоит шкаф, где хранятся фрагменты старой мозаики?
Две птицы…
– Давай, Гермес! – говорит она, приняв решение. Сгоняет с себя птицу и выбирается из-под груды одеял. – Пойдем займемся исследованиями!
Дора натягивает пару шерстяных носков и ныряет в старый папенькин индийский халат. Берет горящую свечку, хлопает себя по плечу. С тихим курлыканьем Гермес занимает свое место, его острые когти впиваются в стеганый шелк и проделывают в ткани новые дырки вдобавок к уже существующим. Дора отодвигает щеколду на чердачной двери и затаив дыхание испуганно ждет громкого скрипа. Но щеколда открывается беззвучно. И девушка выдыхает.
Ей предстоит преодолеть четыре лестничных пролета, а для этого надо сохранять бдительность. Она на цыпочках спускается по ступенькам, вспоминая, какая из них самая скрипучая, какая шатается и где может провалиться подгнившее дерево. Уже почти спустившись, Дора внезапно останавливается и кусает губы. Она забыла про колокольчик! Стоя на темной лестнице, девушка размышляет, как быть. Недовольный тем, что движение прекратилось, Гермес издает еле слышный клекот.
– Isychia![24] – Дора двумя пальцами зажимает ему клюв. Свеча в металлическом блюдце-подсвечнике едва не гаснет. – Только не сейчас!
В ответ на произнесенную шепотом мольбу сорока качает головой и топорщит перья, тыча ими в ее волосы. Дора отпускает птицу и нахмурившись смотрит на дверь.
Надо попробовать.
Приложив ладонь к дереву, Дора медленно-медленно толкает тяжелую дверь вперед. Она поддается и отворяется с приглушенным скрипом. Дора морщась старается мысленно измерить расстояние между дверным косяком и колокольчиком. Совсем небольшое расстояние. Через мгновение она слышит, как дверь касается металлического язычка – с едва различимым царапающим звуком, и Дора замирает, прежде чем колокольчик успевает издать еще какой-то звук. Она рассматривает образовавшуюся щель между дверью и косяком.
Вполне достаточно, чтобы ей протиснуться.

Странно, каким чужим выглядит в темноте все знакомое.
Падающий за окнами снег образует на карнизах пухлые холмики. Сквозь тонкое стекло долетают приглушенные звуки веселья, царящего в соседней кофейне. Струящийся в окно свет превращает шкафы в темные силуэты, и Дора моргает в полумраке, вытягивает перед собой руку с горящей свечой в подсвечнике. Но она может различить на полках лишь поддельные фарфоровые чаши династии Шан.
Надо действовать с умом.
Шкафы, которые она ищет, должны стоять в глубине торгового зала, и Дора идет туда по памяти, мысленно благодаря Иезекию за то, что тот оставил достаточно широкий проход к задней стене.
И все же продвигаться следует очень осторожно. Пламя свечи совсем слабое, и, хотя глаза уже привыкли к темноте, высящиеся с обеих сторон шкафы и этажерки застят проникающий с улицы свет. Дора держит перед собой вытянутую руку и про себя считает шаги:
– Énas, dýo, tría, téssera…[25]
Кончики пальцев натыкаются на что-то деревянное. Она поворачивает направо.
– …Októ, ennéa, déka[26].
Чем дальше она идет, тем светлее становится. На пятнадцатом шаге Дора касается прохладной побеленной стены и понимает, что это вход в подвал. Пока все правильно, думает она, как вдруг ее охватывает мимолетная тревога. А что, если там внизу Иезекия? Она напрягает слух, но ничего не слышит.
Хватит поддаваться тревожным предчувствиям, думает Дора и продолжает осторожно продвигаться в глубь магазина. Вот ее цель: небольшой приземистый шкаф на ножках в виде когтистых лап; задвинутый в самый дальний угол, он не достает Доре даже до пояса. Она вспоминает, как играла перед этим шкафом, покуда ее родители рассказывали посетителям о недавних раскопках: его филенчатые дверцы были распахнуты, и хранящиеся в нем сокровища высыпались на пол. Дора ставит свечу на потертую верхнюю панель шкафа. Гермес, сидя у нее на плече, беспокойно подскакивает.
Дора опускается на колени. Дверцы заклинило. Она опирается о стену, чтобы удержать равновесие, и сильно дергает дверцу. Пламя свечи опасно трепещет у нее над головой. Дора с опаской глядит на свечу.
Только не упади, прошу тебя, не падай!
Пламя свечи выравнивается. Гермес тревожно стрекочет. Дора выдыхает с облегчением.
Внутри шкаф оказывается не таким вместительным, как ей помнилось, и в нем уже почти не осталось свободного места: такое впечатление, что сюда бесцеремонно сволакивали все подряд. Дора аккуратно достает предмет за предметом. Помятая медная кружка, карманные солнечные часы, набор оловянных ложечек, курительная трубка… Она подносит ее поближе к глазам, щурясь, разглядывает клеймо. Рельефный рисунок – сердце. Не то. Она снова заглядывает в шкаф. Вынимает табакерку, миниатюру, изображающую старуху в пышном парике, пару одинаковых медных подсвечников. Вдруг ее пальцы нащупывают что-то маленькое, прохладное, твердое. Дора хватает этот предмет, вытаскивает и подносит к пламени свечи.
Надо же, она совершенно забыла о его существовании.
Это необычный золотой ключ размером с ее большой палец. Его цилиндрический стержень, потускневший от времени и небрежного обращения, изукрашен красивыми филигранными узорами. Головка ключа представляет собой вращающийся выпуклый диск из гагата. На этом овальном диске – рельефное изображение. Бородатое лицо.
В памяти Доры всплывают смутные воспоминания о том, как она в детстве играла с этим ключом – зачем и почему, она уже не помнит, просто ей нравилось без конца крутить гагатовый диск. Знала ли она, какой замок им открывался? Она не помнит. Дора запускает руку в шкаф, гадая, нет ли там шкатулки, к которой подойдет этот ключ, – но она не помнит, была ли такая шкатулка, и удостоверяется, что в недрах шкафа не спрятано ничего подобного. Она снова рассматривает ключ, покусывая губы. Можно ли найти ему применение? Он красивый, этот ключ, но украшающий его рельеф не имеет ни малейшей связи с греческими мотивами, которые ее интересуют. Так что, увы, сейчас он для нее совершенно бесполезен. Пожав плечами, Дора откладывает ключ в сторону и роется в каких-то мешочках, где лежат ни к чему не пригодные лоскутки кожи и атласа.
В конце концов ею овладевает уныние. Ни мозаики, ни осколков керамики, ни монет… А ведь Дора уверена, что когда-то в магазине хранился бюст Афины с отколотым носом и отбитым пером на шлеме. Она с трудом сдерживает разочарование. Да, предметы, которые она помнит, были либо поломаны, либо находились совсем в плачевном состоянии, тем не менее в их подлинности не было сомнений. Кому они понадобились сейчас? Наверное, все давно продано.
Итак, остается единственное место, где можно продолжить ночные раскопки.
Подвал.
Дора там никогда не бывала, никогда даже не переступала порога, не говоря уж о том, чтобы ступить на подвальную лестницу. При родителях подвал считался чуть ли не храмом – а Дору сызмальства научили уважать их личное пространство. Когда родителей не стало, она была еще слишком юна, чтобы составить подробный каталог оставленных ими древних артефактов – этим потом занялся Иезекия. Дядя описал все родительское имущество, а потом заявил претензии на дом, назвав его своей собственностью и рабочим местом, и Дора никогда не чувствовала себя вправе оспаривать это… до сего дня. Потому что сейчас в подвале стоит ящик с грузом, который Иезекия не позволяет ей увидеть, так что же он там держит? И что еще он от нее скрывает?
Дора тихо складывает все предметы обратно в шкаф. Она поднимает свечу, поворачивается и возвращается тем же маршрутом.
Перед ней – большие двери подвала. Гермес на плече ощетинивает перья.
Дора смотрит на висячий замок и пытается прикинуть, легко ли его взломать. Но, как только она протягивает руку с намерением дотронуться до замка, раздается тихий плачущий звук. Рука Доры замирает в воздухе, у нее округляются глаза, и Гермес крепче вцепляется когтями в стеганую ткань папенькиного халата. Но затем раздается другой звук, более знакомый, и – отчасти с облегчением, отчасти с разочарованием – Дора опускает руку и прижимает ухо к дверям.
Оттуда доносится натужный голос Иезекии. Он что-то бормочет себе под нос, как он частенько и делает, запираясь один внизу. Дора снова смотрит на замок. Он приоткрыт у петли, и цепь обернута вокруг одной дверной ручки, а не обеих, как всегда. Ну конечно, он сейчас в подвале. Этого следовало ожидать. И Лотти тоже там, судя по звуку голоса.
Что ж. Ее ночные приключения на сегодня закончились. Дора начинает медленно подниматься по лестнице к себе на чердак. Преодолев половину пути и торопясь заглушить скрип ступеньки от неосторожно поставленной на нее ноги, Дора вдруг слышит храп из комнаты служанки, ее прежней комнаты. То есть Лотти все это время лежала в своей постели.
Насупившись, Дора продолжает подниматься по лестнице. А когда она юркает в кровать и натягивает одеяло до самого подбородка, то вдруг задумывается, отчего это дядюшка издавал звуки, неотличимые от женского плача?
Глава 10
Не открывается.
Видит бог, он старался – на что у него ушло немало часов, – но штуковина так и остается наглухо закрытой. Конечно, он мог бы ее просто разбить. Но тогда не сможет осуществиться вторая часть его плана и вся эта затея окажется пустой тратой времени. Выходит, все было зря, долгие годы ожидания – псу под хвост? Потерять столько денег? Нет, он даже думать об этом не хочет!
Ведь все это задумывалось как его спасение. Эта вещь должна была стать решением всех проблем.
Иезекия злобно морщит лоб. У него трясутся ноги.
Он проводит пальцем по пломбе наглухо запечатанной крышки. Должен же быть некий механизм, некий чертовски хитроумный запор, который он пока что не обнаружил. Он бессвязно бормочет, простукивает костяшками пальцев боковины, пытаясь нащупать уязвимое место на поверхности, найти способ открыть эту штуковину…
Глава 11
Невзирая на предубеждение Корнелиуса, Эдвард решает навестить заведение Блейков и по крайней мере удовлетворить собственное любопытство.
Снег шел всю ночь, превратившись к утру в дорожную слякоть. Снежное покрывало приобрело охряной цвет, оно исчерчено мокрыми колеями карет, что снуют взад и вперед по улицам. Но воздух еще колкий, точно нож, поэтому Эдвард поднимает воротник и прячет подбородок в шарф. Когда он добирается до начала Ладгейт-стрит, у него немеют пальцы.
Он без труда находит лавку – ее арочное окно торчит над мостовой – и на мгновение замирает, чтобы получше оглядеть здание. Старая побелка оконных переплетов лущится крупными хлопьями, одно из стекол треснуто. Дощатая вывеска над лавкой выцвела, а промежутки между словами не соответствуют ее размерам. Эдвард морщится. Ах, вот оно что. Слово «Иезекия» неуклюже втиснуто между боковиной доски и словом «Блейк». А под «Иезекией» проступают еле заметные очертания другого имени – «Элайджа». Седовласый джентльмен прав: магазин сегодня явно не тот, каким был раньше.
Внезапный удар в плечо едва не сбивает Эдварда с ног, и ему приходится ухватиться за карниз, чтобы не упасть.
– Прочь с дороги, ты! – рычит грубый голос, а Эдвард трет ушибленное место и оглядывается, чтобы увидеть, кто его толкнул.
– Прошу прощения… – начинает он, но тут же понимает, что обращается к движущемуся потоку людей, похожих друг на друга как две капли воды.
– Здесь надо шагать без остановки! – произносит другой голос, намного более вежливый. Эдвард разворачивается и видит молоденькую девушку, прислонившуюся к дверям магазина. – Если будете стоять неподвижно, вас просто собьют с ног!
Эдвард ошеломленно смотрит на незнакомку.
Это, должно быть, и есть Пандора Блейк… и она ничуть не похожа на тех женщин, с какими ему до сих пор доводилось встречаться. Высокая – его макушка доходит ей точно до носа, – и кожа у нее чуть бледнее тех грецких орехов, что они с Корнелиусом вчера грызли. На ней простое платье синего цвета, какие носят служанки, и – хотя он плохо разбирается в фасонах женской одежды – с виду оно несколько старомодно. Незатейливые очки обрамляют ее глаза, цвет которых трудно различить, поскольку она стоит в тени под дверным козырьком. Ее волосы темны, как патока, и собраны на темени узлом, розовая лента придерживает несколько выбившихся непокорных прядей. И странное дело: на плече у девушки сидит сорока. Птица внимательно смотрит на Эдварда черными глазками-бусинками, как будто точно знает, зачем Эдвард сюда пришел.
Он так долго глядел на девушку, что сдержанная улыбка сползла с ее губ и она начала переминаться с ноги на ногу. Сорока трещит. Эдвард вздергивает голову, чтобы обрести дар речи.
– Да-да, вы правы, конечно… – И тут он чувствует, как розовеют его щеки. – Я не хотел…
– Я могу вам помочь, сэр?
Эдвард старается взять себя в руки.
– Да! Вообще-то да, – он указывает на лавку. – Я ищу…
Но девушка кивает и входит внутрь, а Эдвард, глупо моргая, смотрит на пустое место, где она только что стояла, и помимо своей воли следует за ней.
Когда его глаза привыкают к полумраку тесного торгового зала, он видит, что девушка стоит за небольшим прилавком в заставленном разнообразными предметами углу, а к нему прихрамывая направляется дородный мужчина в чересчур тесном жилете и протягивает для приветствия мясистую ладонь.
– Иезекия Блейк, со всем моим уважением! – произносит мужчина, тряся руку Эдварда столь энергично, что тот чувствует, как в запястье у него хрустит сухожилие. Рука у мужчины липкая, и Эдвард украдкой вытирает свою ладонь о брючину.
– О, да у вас пальцы как ледышки! Дора, будь добра, позови Лотти, предложим нашему гостю горячего бульону.
– Да что вы, сэр, в этом нет необходимости…
– Чепуха! Чепуха! – рассыпается в любезностях мистер Блейк и подводит Эдварда к двум затейливым позолоченным креслам, обитым зеленым бархатом. – Я настаиваю. Я всегда стараюсь, чтобы мои посетители чувствовали себя здесь как дома. Не возражаете, если мы присядем? – Он тычет в свою правую ногу. – Вчера случилась небольшая неприятность.
– Надеюсь, ничего серьезного?
Тренькает колокольчик, дверь позади прилавка распахивается, и через нее Пандора – нет, мистер Блейк назвал ее Дора – выходит из торгового зала.
Мистер Блейк слегка морщится, усаживаясь в кресло.