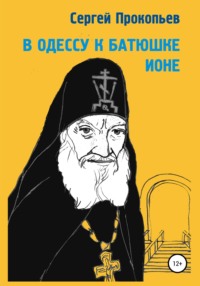полная версия
полная версияМини-роман о бабушке Полин
При хорошей погоде через тройку дней сгребают просохшее сено и вывозят на родной берег. Это отдельная песня. Лодку загружают так, что сердце кровью обливается – страшно смотреть, того и гляди перевернётся, Фрол Кузьмич с берега картину увидит – копна летит по воде – и как начнёт ругаться! Лодка едва-едва бортами не черпает воду. Но сыновьям надо быстрей-быстрей! «Чё дробиться!» – говорит Лёшка. И вправду, «чё», когда пироги стынут, холодец тает, водка киснет? Лодка, чудом не перевернувшись, доставит копёшку на родной берег. Дальше сено перегружается на Лёшкину моторашку, у него на этот случай прицеп имеется специальный. И снова транспортировка идёт на пределе технических возможностей!
– Заполняй бомбовоз до ватерлинии! – командует Лёшка.
Перегруженный «бомбовоз» еле прёт, взбираясь в гору, – берег-то высокий – мотор жилы рвёт, натужно ревёт. У Фрола Кузьмича сердце разрывается:
– Сожгёте моторашку! Лучше лишнюю ходку сделать!
Да куда там «лишнюю»! Сыновьям лучше лишнюю песню за столом спеть!
Чудеса офтальмологии
Корову Фрол Кузьмич держал до последнего, даже когда Полина Ивановна отказалась доить, сам стал обихаживать Марту. «Пока могу – буду!» – упрямо стоял на своём. Умер в одночасье. У Полины Ивановны давление подскочило, вызвали «скорую», приехала машина, укол поставили. Врач, дочь подруги Полины Ивановны, не сразу за порог смоталась, подождала, пока болящей полегчает, посоветовала недельки две в стационаре полежать, дала таблетки на всякий случай…
Врачи уехали, а Фрол Кузьмич вдруг говорит:
– Не могу, Поля, горит всё внутри! Горячим пламенем пылает!
Где-то за полгода до этого вдруг сказал:
– Похорони меня, Поля, рядом с мамой! У отца место лучше, но с мамой хочу! Дурак был, брата послушался, надо было настоять – маму к папе подхоронить! Так Ванька упёрся: «Пусть каждый рядом со своей родовой лежит!»
Полина Ивановна завозмущалась:
– Ты с чего это, Фролушка, засобирался умирать? А я как одна?
– Это я просто к слову…
Но вдруг воспламенилось в груди…
И «скорая» не успела…
Стала жить Полина Ивановна одна. Квартирантов держала, всё веселей. Хоть чаще не совсем путные попадались. Где-то в это время получила Полина Ивановна прочное имя – бабушка Полин. С ударением на «и». Назвал её так трёхлетний внук Серёжа, Федькин сын. Полина Ивановна звала его Сéрьга. «Бабушка Полина» у Сéрьги не выговаривалось, а «бабушка Полин» получалось звонко. С его лёгкой руки Полина Ивановна вошла в последний период своей жизни с именем бабушка Полин. Её так даже Лёшка порой называл. Самое интересное – Полина Ивановна не обижалась, больше того – ей новое имя нравилось.
Будем и мы звать её так.
Корову она продала, но сыновья приезжали и без покоса. Главное занятие стало рыбалка. Уедут мужики, бабушка Полин заставит невесток половики стирать:
– Девки, давайте-ка наведём чистоту, пока мужики рыбу на пирог ловят, тащите в корзинах половики на берег, а я себя помаленьку.
Невестки тащат половики, а бабушка Полин себя с трудом перемещает в ту же сторону. Доковыляет, сядет и смотрит вдаль. С глазами у неё, как и с ногами, совсем плохо, сделали операцию по удалению катаракты, да не совсем удачно.
И вот сидит на берегу. Вдруг говорит:
– Вон сыночки плывут.
Невестки вскинут головы. Вроде как точка на горизонте движется.
– Не может быть, не они это!
– Как не они, когда вон Федька на корме сидит, я же хорошо его вижу.
Как она может видеть? Минут пять назад теплоход прошёл, говорила:
– Звук слышу, а так не вижу.
Но тут уверяет:
– Чё я, не вижу, чё ль! Федька на корме, а Лёшка в носу.
Невестки и лодку ещё не различают, она видит, где кто из сыновей сидит.
И ведь точно угадает. То ли сердце подсказывает, то ли глаза на сыновей зрячими становятся. Чудеса офтальмологии да и только.
Вафельница с метровыми ручками
Собралась бабушка Полин к дочери Светке на Алтай. Как всегда десять сумок набила. Мёд, ветчина домашняя и другая всячина. Лёшка приехал забирать, бабушка Полин сидит на табуретке, вокруг сумки, а в руках вафельница. Да не просто вафельница – музейный экспонат. Оказывается, вафли – изобретение отнюдь не двадцатого века, и не в какой-нибудь французской провинции кулинары придумали, в русской печке тоже делали изысканное печенье. У вафельницы бабушки Полин ручки метровые, да какие метровые! Полутораметровые. Кованые.
Лёшка как увидел мать с этими оглоблями, так и обомлел:
– Мам, ты чё, с ними собралась ехать?! – спрашивает.
Но сам не верит. Ну не может такого быть!
Может.
– А чё? Я, сынок, отпекла вафли-то, надо Светке передать. Вафельница мне от мамушки досталась! По наследству.
Лёшка аж забегал по комнате!
– У Светки нет русской печки. Нет! Куда она их совать будет?
– На газе будет печь.
– Да у неё кухни не хватит на эти оглобли!
– Хватит, помнишь, когда отцу девять дней делали, на газе вафли пекли!
– Как же не помню! Бабы чуть не поубивали друг друга этими жердями!
– Ничё, Светка аккуратно будет!
Лёшка решил с другой стороны подойти:
– Мам, твой агрегат для моей машины негабаритный, не влезет!
– Как-нибудь войдёт!
– А в вагоне как ты с ним будешь?
– Ничё…
Лёшка понял: мать не переговорить, а время поджимает. Он, как всегда, приехал тютелька в тютельку, никакого зазора по времени не оставил про запас. Лёшка к тому времени с моторашки пересел на «жигули». Вырвал он у матери кондитерский агрегат, крутнулся и за дверь. Прибегает через двадцать минут, ручки почти по самое основание отчекрыжены.
– Едем, мама, скачками, не то опоздаем!
– Ты чё, варнак, натворил? – подскочила с табуретки мать. – Ты чё наделал?
– Как раз Светке с её микроскопической кухней!
– Мамушка мне передала, а ты обкарнал!
Бабушка Полин чуть не в слёзы. А что уже сделаешь?
– Чё ты такой-то безголовый? – ругалась всю дорогу. – Чё безмозглый-то такой?! Сердца у тебя никакого нет!
– И рук нет, и ног тоже! Непонятно – кто тебя каждый раз в город возит?!
– Он ещё и подшучивает! Испортил вафельницу!
– Да купит Светка какую надо! Сейчас и электро есть, и на газе! Зачем ей твоя уродина?!
– Это же мамушкина вафельница! Как ты не понимаешь? Мамушка на ней на свадьбу мою пекла и, когда ты родился, в роддом мне приносила вафли, на ей сделанные…
На Алтай в тапочках
Бабушка Полин любила у дочки Светланы гостить. Она бы и к старшей Анне ездила, да та жила чересчур далеко – в Чите. Туда не наездишься – трое суток на поезде. Сыновья в Омске жили, но их реже, чем Светку, посещала, неуютно себя рядом с невестками чувствовала. В тот раз собралась в Бийск в декабре. Никольские морозы ударили, она Лёшке звонит: отвези в Омск на вокзал. Лёшка примчался везти маму, она сидит в зимнем толстенном пальто, в шали… А на ногах розовые тапочки в горошек. Обувь никак не по погоде….
– И чё? – остолбенел Лёшка, разглядывая матушкин прикид.
– Танька-квартирантка, сучка такая, мои валенки и сапоги куда-то задевала! Пропила, наверное. С неё станет. И слиняла – второй день нет, а я обыскалась, не в чем ехать. Не поеду.
– Как это? Толя билет уже купил! Светка ждёт! А ты «не поеду»!
– В чём?
Забегал Лёшка по дому в поисках, вдруг что-то найдётся. А ничего. На улице без малого сорок градусов. Но Лёшка был бы не Лёшка, если б согласился материн отбой уныло поддержать. Прекратил поиски. Встал перед матерью и широкими мазками набросал план взятия Алтая:
– До Омска за полчаса на машине долетим, на вот шаль, укутаешь ноги, не замёрзнут. До вагона тебя с Толиком на руках донесём, он на вокзал обещался прийти, а в вагоне тепло. Светке сообщим, она тебе какие-нибудь чуни найдёт.
Так и сделали. Сыновья маму, не успела она из машины вылезти, подхватили на руки. Хоть мама далеко не изящных размеров, да они её, как лёгкую лебёдушку, шутя, внесли в вагон, посадили на сиденье!
Попутчики всю дорогу удивлялись. Бабулька в розовых тапочках за тысячу километров в самые морозы двинула в гости.
Доехала путешественница в легкомысленной обуви и даже не кашлянула. Светка в Бийске валенки принесла, бросилась в вагоне обувать.
– Вот я барыня. К поезду на руках приносят, в поезде обувают, как принцессу…
Лебединое озеро
Приехала бабушка Полин в Омск праздновать пятнадцатилетие внука Сéрьги. Навезла вкусноты, пирог рыбный испекла дома. «На вашем газе ничё у меня не получается». Накрыли стол, вот-вот гости придут, она всполошилась:
– Эт чё это я тут растрёпой сижу, надо в парикмахерскую сходить!
Толя стал уговаривать:
– Мама, куда ты?
Разве маму уговоришь, коль решила.
– У вас тут рядом, пойду!
– Там же по записи, мама!
– Ничё, скажу, из деревни бабушка, у внука день рождения, не растрёпой сидеть!
Ушла. Вот уже и гости собрались, бабушки Полин нет. Слюной все исходят за столом, но нельзя начинать. Наконец часа через два заявляется. Химку сделала, волосы покрасила, маникюр.
В другой раз поехала на юбилей Федьки. Не Федьки, конечно, Фёдора Фроловича. И сюрприз приготовила. Лёшка приезжает за ней на машине, бабушка Полин как всегда сумок набрала. Чего только не наготовила: от шанежек до рулета куриного. Пирог рыбный, само собой. Кроме этого стоит на столе наготове огромное блюдо.
– Чё, и вот это тащить? – Лёшка привык к маминым чудачествам, но такого ещё не было!
– А как же!
Бабушка Полин по телевизору услышала рецепт и решила удивить гостей. Из желе делается голубое озеро с зелёной волной, а по нему плывут два заварных лебедя со сладкой начинкой. Каждая деталь прописана, каждая проработана. Клювики у лебедей красненькие, глазки выведены, чуть ли не каждое пёрышко прорисовано. Красота. С великими предосторожностями довезла бабушка Полин «озеро». Всю дороженьку ругала Лёшку:
– Да не гони ты! Осторожно! Куда тебя несёт?
– Чё, нам ползком ехать из-за твоих дурацких птиц озёрных? Засмеют меня мужики по трассе!
– Ну и засмеют! Зато озеро будет в целостности!
Довезли. На балкон поставили. Гуляют, до сладкого не дошло ещё, а внук Сéрьга захотел стрельнуть фейерверком с балкона, ломанулся туда, бабушка Полин вскричала заполошно вослед, будто пожар разыгрывается:
– Стой, Сéрьга! Стой! Леблядей поломаешь, зараза такая!
А Сéрьга и на самом деле ногу занёс в озеро вляпаться. Но только чуток повредил гладь.
Бабушка поворчала на внука, пригладила озеро.
Но любила Сéрьгу и его придумку с бабушкой Полин.
Поскучнела жизнь, да не совсем
Жизнь поскучнела на бабушку Полин с её смертью. Конечно, новые песни придумала жизнь, и что там о прежних тужить. Сéрьга вон как хорошо поёт. Голос сильный, красивый. Но исключительно на рэп налегает. Отец ворчит:
– Чё за музыка? Скачки голой задницей по стиральной доске!
– Ну не «Ёшь» твою петь! – обижается Сéрьга!
– А чем, скажи, плохая песня? Чем? – заводится отец. – Вслушайся, какая мелодия…
И, желая одержать победу в эстетическом споре отцов и детей, хватает баян:
В поле за околицей,
Там, где ты идёшь,
И шумит и клонится
У дороги рожь.
Сéрьга сначала молчит, а потом подхватывает, и они на два голоса доводят песню до конца.
– Ну чё? – победно вопрошает отец.
– Ничё, – снисходительно говорит Сéрьга, – бабушке, может, понравилось бы!
– Слышал бы, как она в молодости пела… – Фёдор Фролович растягивает меха:
Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой,
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой.
И снова Сéрьга не остаётся в стороне, поддерживает отца. Он знает все песни семейного репертуара. Но сам поёт один рэп. Зато какой аккомпанемент на баяне наяривает! Тут никакой рэпнутый негр за ним не угонится… Деду Фролу обязательно понравилась бы игра внука. Про бабушку Полин и говорить нечего…
РЕВЕЛА БУРЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Рассказ
Завёлся у Любаши Светличной жених на море-океане. Не из пучка водорослей, а от брата Димки. Морячок торгового флота брат в ревущих широтах показал дружку Мише фотоличико сестры:
– Гля, какая сеструха!
– Ба!– только и вымолвил поражённый красотой сибирячки Миша и побежал сочинять письмо в сторону далёкого берега.
Дошла океанская весточка по волнам и через тайгу с болотами в Сибирь. Завязалась переписка. И вдруг, трах-бах, от моряка телеграмма: «ПРИЕДУ НА НОВЫЙ ГОД ТЧК».
В доме у Светличных случился психоз. Любаша у родителей была последним чадом. Когда хорошо за сорок обоим стукнуло, учудили младшую дочу. В момент образования просоленного океанскими ветрами Любкиного жениха родители невесты имели прочный, не отдерёшь, статус деда Макара с бабой Мотей. С пенсией и внуками. Кроме моряка-холостяка Димки и Любаши, имелась ещё дочь Валентина и сын Геннадий.
Мишин причал находился в Кашире, что в Московской области. Как бабе Моте не вдалбливали родственники все вместе и по одному, что Кашира помене их Ачинска в длину и поперёк, всё равно считала: жених из москвичей.
– Ой, Любка, – причитала, – опозоримси-и-и…
Миша сообщал, что он механик. Данное рукомесло баба Мотя очень уважала. Это не Димка-непутня, радист какой-то, а здесь – механизмы! «Имя заведовать, говорила баба Мотя, – это не ручки у радио туды-сюды вертеть».
Были у бабы Моти переживания по застольной программе: чем угодить москвичу, что в родову их метит? Но главная тревога, терзавшая сердце хозяйки, – компания. В её мужицкой части. Ох, богата она была на подводные камни. Самый опытный мореход может лоб расшибить и перехотеть жениться.
В отношении камня «врезать за Новый год» баба Мотя на оргкомитете постановила: если кто переврежет, невзирая на принадлежность лица – муж, сын или зять, – физиономии утюгом отрихтует.
Но мужики не только врезать были мастаки. У деда Макара после третьей рюмки душа пёрла наружу так, что пуговицы не выдерживали. До пупа расстёгивались как сверху, так и с шириночной стороны. Свои с пониманием относились к рвущейся сквозь застёжки душе. А вот как москвич отреагирует?
Зять Никита по пуговицам был вне подозрения. Зато под хмельком петь любил. Вокалировать начинал без палочки дирижёра. Как мешком из-за угла ударяли. И для самого певца неожиданно. Вдруг в голове замыкалось реле, и всегда на «Ревела буря, дождь шумел!..» А ревел Никита, как та буря во мраке. Штормовую стихию в масштабе один к одному рисовал. Сидит компания, выпивает-закусывает, на небе ни облачка, вдруг Никита как рявкнет подвальным басом: «Ревела буря» Не зная певца, можно с инфарктом в салат лицом угодить.
Баба Мотя дочери Валентине наказала ни на секунду не отвлекаться от мужа Никиты, отвлекая его песенное реле от бури. А на вырывающуюся от винных паров душу деда Макара сама нашла управу: приказала надеть вместо рубахи водолазку сына Генки. Шириночную калитку хотела обойти спортивным трико. Дед попытался вякнуть:
– Я что – цирк приехал?
На что баба Мотя рявкнула:
– Тут хуже – москвич едет!
Но посмотрела на обтянутую в водолазку и трико тощую фигуру мужа, с лысой, как колено, головой и плюнула:
– Срамота!
Дед даже с распахнутой настежь ширинкой смотрелся лучше.
Кстати, жених тоже переволновался, собираясь на смотрины. Писаным красавцем себя не считал, но и не урод, чтоб глаз косой или нос набок. А всё одно – беспокойство имелось. Как никогда часто в зеркало гляделся. Но с каждым автобиографическим отражением всё больше убеждался – нормальный ход. И вдруг красота, как в помойное ведро. Всю жизнь тридцать два зуба без пломб и червоточины, а тут… За день до отлёта к невесте жених в баню пошёл, после парной бес под руку толкнул: открой пиво зубами…
Переступив порог Сибири, Миша старался левую половину рта не раскрывать. Маскировал изъян красоты. В результате даже улыбка кособокая получалась. Отчего вся физиономия имела вид: «Что вы тут, лапти сибирские, волокёте в жизни? Вот мы – москвичи!..» На самом-то деле улыбался от души, даже застенчиво. А получалось – сквозь зубы. Окружающие думали: «За каким хреном-овощем вообще было ехать?»
Невесту посадили как раз со стороны зубной недостачи. Любаша, глядя на поджатые губёшки суженого: изводилась, ну что ему не по душе?
Потенциальная тёща тоже не знала, как быть? Она, сияя личиком, гостю рыжики отведать предлагает: «Кушайте, сами собирали». Тот всю тарелку полуведёрную подчистую навернул, а всё равно физиономию кривит. Бабе Моте как нож под сердце. Да что за люди москвичи эти?! Ведь видно – нравятся грибочки. Нет, косорылится, как, прости, Господи, непотребным накормили.
Мужикам и совсем бы плевать на кривизну гостя, кабы им граммов по двести на каждый глаз. От закусок стол проседал, а пить разрешалось по предпраздничной инструкции только сухое вино. Под страхом смерти. «Портвейна» хотя бы взяла, – ворчал про себя дед Макар на бабку, – а то мочу эту…»
– По коньячку? – предлагал Миша мужикам.
– Ага, – дружным хором звучало в ответ.
– Они не пьют! – сверкала глазами на хор баба Мотя.
– Не пьём, – вздыхали мужики.
Дочь Валентина, помня материнский наказ, отвлекала Никиту от «Ревела буря» пинками. Хотя с чего петь-то? С кисляка впору волком выть. Но жена пинала: «Не пой!» И ведь не в войлочных тапочках сидела. Как же – московский гость! В туфлях. Ещё бы лодочки, тогда куда ни шло. А тут подошва, как из БелАЗовской резины. После третьего пинка налился синяк. Вскоре конечность можно было ампутировать.
Никита запросился поменяться местами.
– Чё у тебя гвоздь в стуле?
– Ногу отсидел.
Через полчаса к ампутации созрела вторая конечность. Баба Мотя тоже периодически толкала деда в бок:
– Застегнись!
Дед судорожно хватался за насмерть застегнутую на замок и две булавки ширинку. А москвич с кривой физиономией недоумевающе смотрел на дёргающегося с частотой отбойного молотка Никиту, на деда, то и дело хватающегося за причинное место. Только Гена сидел тихо со смертной тоской в глазах. Он вспоминал, как славно гуляли без москвича раньше.
В прошлом году в три часа ночи давай в фанты играть. Деду Макару досталось с балкона овцу изобразить. Взбрыкивая, зарысил дед на четвереньках на балкон, откуда на всю округу заголосил:
– Бе-е-е-е!..
Жалостно так. Глупая овечка от отары отбилась, боится, что на шашлык наденут. Отблеял дед Макар и только за рюмку – сольный номер отметить, – звонок в дверь. Лейтенант милиции.
– У вас, – строго спрашивает, – на балконе сельхозскотина?
– Ага, – дед Макар цветёт.
– В частном секторе, – говорит милиционер, – похищена овца. Надо провести опознание.
– Запростака, – хохотнул дед Макар, упал на четвереньки и, бекая, пробежался по комнате.
– Косим под психклиента? – не улыбнулся милиционер. – Так и занесём в протокол.
– Мил человек! – пришла в себя баба Мотя. – Какой протокол? Старый дурак напился. Ничего мы не воровали. Смотрите сами…
– Успели перепрятать! – заглянул милиционер на балкон. – Придётся пройти в отделение.
От волнения дед Макар в секунду расстегнул все пуговицы на ширинке.
– Вы чё?– отпрыгнул от него милиционер и достал наручники. – Гомик?
– Точно, – сказала баба Мотя. – Убила бы, какой комик. Продыху от его надсмешек нет. Доблеялся, старый козёл!
– Я имел в виду, что он гомосексуалист!
– Какой там сексуалист! Давно уже, слава Богу, с этим не пристаёт.
– А чё тогда на меня ширинку нацелил? Я же при исполнении.
И забрал деда.
Не успела баба Мотя утереть слезу и снарядить дочек выручать папу родимого, как грохот в дверь:
– Откройте! Милиция!
Дед Макар в милицейской фуражке и в обнимку с недавно арестовавшим его лейтенантом, у которого в руках бутыль самогонки.
Оказывается, милиционер – это племянник соседа снизу, приехал к дядьке в гости из Абакана. Ну, и решил подшутить.
Славно всегда гуляли. Тогда как нынешний праздник летел, как говорил в таких случаях дед Макар, корове в подхвостицу…
Баба Мотя всю жизнь угощения делала тазами. Таз пельменей, таз колдунов – вареники с капустой, – таз винегрета… На этот раз тазы были практически нетронутыми. Мужикам на сухую в горло не лезли ни пельмени, ни колдуны…
– Хватит! – в один момент хлопнул по столу дед. – Спать!
На часах ещё и двух не было. И это сказал дед Макар, который, как правило, в Новый год куролесил до следующего вечера. Приткнётся где-нибудь на полчаса, проснувшись, пуговицы застегнёт и опять гулять. Тут отрезал: «Спать!» И все согласились.
Гуляли они в однокомнатной квартире сына Генки. В своём добротном частном доме привечать гостя баба Мотя наотрез отказалась – не с деревни, чать, гость приехал. У Генки имелся дефицит спальных мест. Женщины выбрали диван-кровать и покатом поперёк лежбища разместились. Мужикам постелили на полу, гостю – на кухне, на раскладушке.
Мужики суровым строем лежали под ёлкой. Не спалось. Червь недовольства точил их. Один всех троих. Большой и злой. Двенадцать месяцев ждёшь праздник, и вот он бездарно летит в подхвостицу. За окном смех, песни, визг…
И попробуй, усни, когда ни в одном глазу.
– Сейчас бы снотворных капель! – зашептал дед Макар.
– Пару кружек, – согласился Никита. – Пойду-ка я погляжу.
– А? – спросонья услышала его голос супруга.
– Бэ! – недовольно продолжил алфавит муж. – В туалет хочу. До утра что ли терпеть?!
Заурчала вода. Вернувшись, Никита доложил командному пункту под ёлкой: «Спит». Начался совет в Филях под одеялом, что делать? Но и враг не дремал.
– Вы что там вошкаетесь?– спросила Валентина.
«Кто вошкается?» – хотел возразить Генка, но дед Макар вовремя зажал ему рот. Надо было усыпить бдительность противника. «Храпите!» – приказал дед. Мужики начали свистяще-храпящими руладами изображать спящих. И женщины сомлели под эту музыку.
– Всё! – зашептал Генка. – Я на разведку. Вы храпом прикройте.
На четвереньках он добрался до порога и растворился во мгле. Оставшиеся извлекли уши из-под одеяла, вперили их в темноту. Заскрипела дверь, взвизгнула раскладушка.
– Укоренился, – сказал минут через десять Никита. – Я пошёл.
– Стой! – остановил дед Макар. – Старших положено вперёд… А ты храпи за троих!
Женщины спали беспокойно. Любаша во сне плакала на пирсе. В море уходил жених на корабле с жёлтыми, как детские пелёнки после детских неожиданностей, парусами. Валентина то и дело взбрыкивала – она всё ещё противопесенно пинала Никиту. Баба Мотя плакала во сне над прокисающими в тазах пельменями и колдунами…
Однако в семь утра женщин сорвало с дивана. Из кухни громом грянуло:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…
Буря ревела на всю пятиэтажку. Женщины бросились на голос.
Мужики сидели на кухне в трусах. Хорошо сидели.
– Любка, – вышаривал на майке пуговицы дед Макар, – выходи за Михаила. Наш человек! Сибиряк!
– Во мраке молнии блистали! – подтвердил сказанное Никита.
– Чё так-то без пельменей, – бросилась разогревать закуску баба Мотя, – без колдунов… Сколько наготовлено!..
Она была счастлива, увидев пьяно, но не криво, улыбающегося во все свои тридцать один с пеньком зубы москвича Михаила.
Такой зять был в самый раз.
***В оформлении обложки использован рисунок художника Владимира Чупилко.