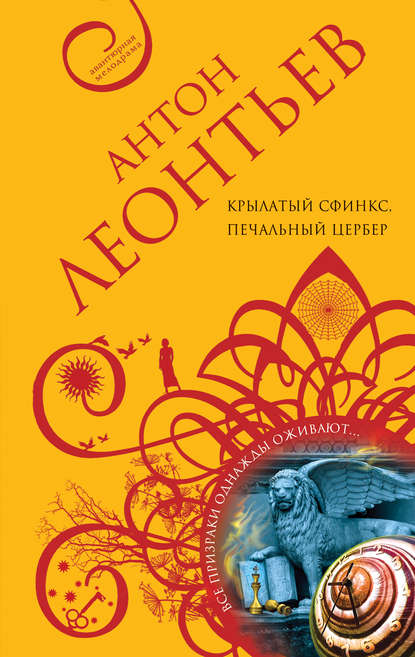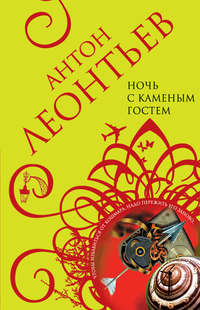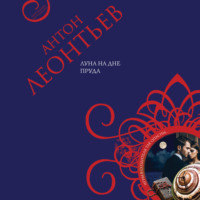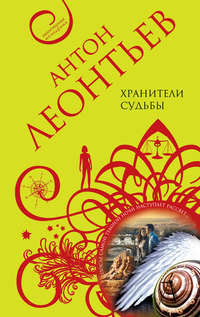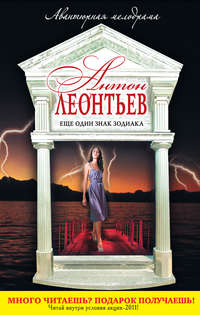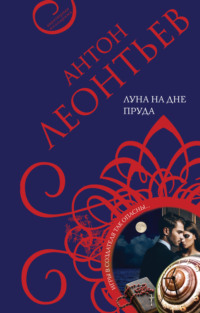Фиалок в Ницце больше нет
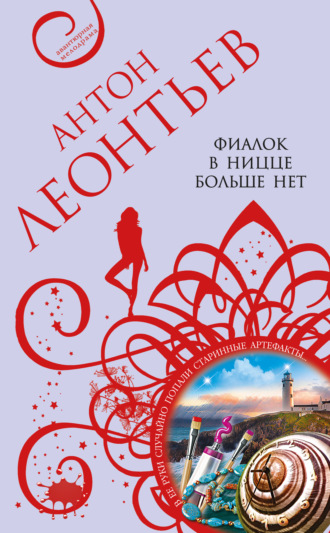
Фиалок в Ницце больше нет
Жанр: любовные романыдетективыостросюжетные любовные романысовременные детективымистический дарзагадочные происшествияостросюжетная мелодрамасверхспособности
Язык: Русский
Год издания: 2022
Добавлена:
Серия «Авантюрная мелодрама»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента