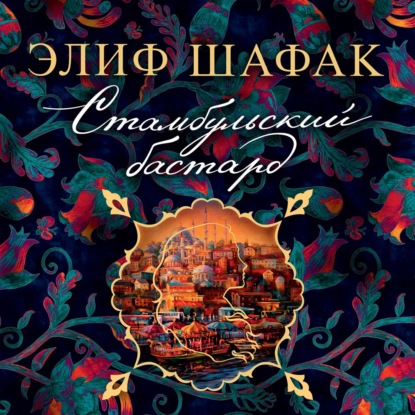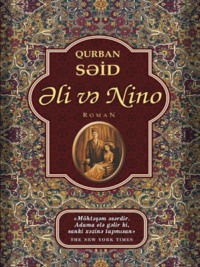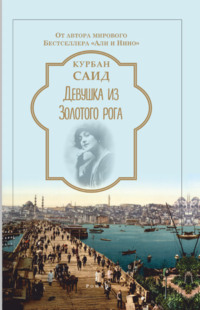Полная версия
Али и Нино
Я вошел в уже переполненный зал. В углу, окруженный учителями, с важным видом сидел директор нашей гимназии, действительный тайный советник Василий Григорьевич Храпко. Я подошел к нему и почтительно поклонился. На протяжении гимназических лет я представлял интересы учеников-магометан перед директором, поскольку от природы наделен талантом с легкостью распознавать языки и наречия и подражать им. Если большинство из нас не произнесут и одного русского предложения, тотчас же не обнаружив в себе инородцев, то я владел даже отдельными русскими говорами. Наш директор был родом из Петербурга, поэтому с ним полагалось говорить по-петербургски, то есть согласные произносить шепеляво, а гласные проглатывать. Получается малоприятно, но чрезвычайно утонченно. Директор никогда не замечал насмешки и радовался «успешно продвигающейся русификации этой далекой окраины».
– Добрый вечер, господин директор, – скромно сказал я.
– Добрый вечер, Ширваншир, вы уже пришли в себя после ужасов, пережитых на выпускных испытаниях?
– О да, господин директор. Но тем временем на меня обрушилась ужасная новая напасть.
– И что же это?
– Вы не знаете, что произошло в лепрозории? Мой двоюродный брат Сулейман видел все собственными глазами, он ведь служит в Сальянском полку поручиком. От увиденного и пережитого он сделался совсем больным, мне пришлось за ним ухаживать.
– А что же случилось в лепрозории?
– Как? Господин директор не знает? Все больные вырвались оттуда и вчера двинулись на город. Против них пришлось выслать две роты Сальянского полка. Прокаженные захватили две деревни. Солдаты окружили их и расстреляли всех, больных и здоровых. Сейчас сжигают зараженные дома. Разве это не ужасно, господин директор? Лепрозория больше нет. Прокаженные с отваливающимися руками и ногами, с гноящимися язвами на лице, иногда еще живые, хрипящие в агонии, лежат за городскими стенами; их медленно обливают керосином и сжигают.
У директора на лбу выступила испарина. Вероятно, он стал лихорадочно размышлять, не пора ли все-таки ходатайствовать перед министром о переводе в более цивилизованные края.
– Варварская земля, населенная варварами, – печально произнес он. – Однако заметьте себе, дети, как важно, чтобы власть обеспечивала в стране порядок и умела прибегать к быстрым, решительным мерам.
Класс, обступив директора, с усмешкой слушал его разглагольствования о порядке – истинном, несомненном благе. Лепрозорий с его обитателями ушел в небытие, а наши преемники в следующих классах пусть выдумывают что-нибудь новое.
– А разве вы не знаете, господин директор, что сын Мехмед-Хайдара уже перешел во второй класс нашей гимназии? – с наигранным простодушием спросил я.
– Что-о-о?
У директора глаза полезли на лоб. Мехмед-Хайдар был позором нашей гимназии. В каждом классе он сидел по крайней мере по три года. Шестнадцати лет он уже женился, но по-прежнему продолжал посещать гимназию. Его сыну исполнилось девять, и он поступил в ту же гимназию. Поначалу счастливый отец попытался скрыть этот факт. Но однажды маленький пухленький мальчик на перемене подошел к нему и, глядя на него большими невинными глазами, заявил по-татарски: «Папа, если ты не дашь мне пятак на шоколадку, я скажу маме, что списал работу по математике».
Мехмед-Хайдар ужасно смутился, поколотил дерзкого сорванца и попросил нас при удобном случае сообщить директору о том, что у него есть сын, в как можно более мягких, щадящих выражениях.
– Иными словами, вы утверждаете, что у ученика шестого класса Мехмед-Хайдара есть сын, который уже посещает первый класс? – спросил директор.
– Именно так. Он очень, очень просит прощения. Однако он хочет, чтобы его сын, как и он сам, приобщился к западной учености. Воистину трогательно видеть, как стремление к западным знаниям охватывает все более широкие слои населения.
Директор покраснел. Он мысленно соображал, не нарушает ли то обстоятельство, что отец и сын посещают одну и ту же гимназию, какое-нибудь гимназическое правило. Но решить не мог. И потому папе и сыночку позволили и далее осаждать крепость западной науки.
Тут отворилась незаметная боковая дверь. В сторону отодвинули тяжелый занавес. Мальчик лет десяти за руку ввел в зал четверых темнокожих слепцов, персидских музыкантов. Они уселись на ковер в углу зала и достали странные музыкальные инструменты древней персидской работы. Раздался жалобный звук. Один из музыкантов классическим жестом восточного певца поднес руку к уху.
В зале наступила тишина. И вот другой перс, преисполнившись воодушевления, ударил в бубен. Певец высоким фальцетом затянул песню:
Подобен персидскому клинку стройный стантвой.Уста твои подобны сияющему рубину.Если б я был турецким султаном, взял бы тебяв жены.Я бы вплел жемчуга в твои косы,Я бы целовал твои ноги.В золотом кубке я поднес бы тебеСвое сердце.Певец умолк. Тут раздался голос его соседа слева. Громко, грубо и злобно он вскричал:
И каждую ночь,Точно крыса, прокрадываешься тыВо двор соседа!Бешено загремел бубен. Зарыдала однострунная скрипка-ребаб. Третий певец воскликнул, гнусаво и страстно:
Он шакал, неверный…О несчастье! О горе! О позор!На мгновение воцарилась тишина. Затем, после трех-четырех музыкальных тактов, вступил четвертый певец и затянул тихо, мечтательно, почти нежно:
Три дня буду я точить свой кинжал.На четвертый я заколю своего соперника.Я разрежу его тело на мелкие кусочки.Я переброшу тебя, о возлюбленная, через седло,Я сокрою лицо свое покрывалом войныИ унесусь с тобой в горы.Я стоял у одной из парчовых занавесей, украшавших зал, рядом с директором и учителем географии.
– Ужасная музыка, – едва слышно посетовал директор, – точно ночной рев кавказского осла. Интересно, а о чем там речь?
– Верно, бессмыслица какая-нибудь, под стать этой какофонии, – отвечал учитель.
Я хотел на цыпочках незаметно ускользнуть.
Тут я заметил, что тяжелая парча слегка заколыхалась, и осторожно оглянулся. За занавесью стоял старик с белоснежными волосами и странными, очень светлыми глазами, он слушал музыку и плакал: это был господин Зейнал-ага, отец Ильяс-бека. Его руки с набухшими голубоватыми жилами дрожали. Этот старик с дрожащими руками, который едва ли умел написать собственное имя, владел состоянием более чем в семьдесят миллионов рублей.
Я отвел глаза. Этот Зейнал-ага был простым крестьянином, но в искусстве певцов понимал больше, чем наши учителя, объявившие, что мы достигли зрелости.
Слепцы допели песню. Теперь музыканты заиграли кавказскую танцевальную мелодию. Я прошелся по залу. Гимназисты стояли, собравшись стайками, и пили вино, в том числе и магометане. Я пить не стал.
По углам болтали друг с дружкой девочки, подруги и сестры наших товарищей. Среди них было много русских, со светлыми косами, с голубыми или серыми глазами и с напудренными сердцами. Они разговаривали только с русскими, в крайнем случае с армянами и грузинами. Если к ним обращался магометанин, они смущенно хихикали, выдавливали из себя несколько слов и отворачивались.
Кто-то открыл крышку рояля. Раздались звуки вальса. Директор закружился в танце с губернаторской дочкой.
Но вот наконец с лестницы донесся голос:
– Добрый вечер, Ильяс-бек. Я немного опоздала, но не по своей вине.
Я бросился на лестничную площадку. Нет, Нино надела не вечернее платье и не парадную форму женской гимназии Святой царицы Тамары. Талия ее, охваченная туго зашнурованным корсетом, была так тонка, что, кажется, я мог бы обнять ее одной ладонью. Стан ее облегал коротенький бархатный кафтан с золотыми пуговицами. Длинная черная юбка, тоже бархатная, ниспадала до самого пола. Из-под нее выглядывали только носки расшитых золотом сафьяновых башмачков. Голову ее покрывала маленькая круглая шапочка, с которой спускались на лоб два ряда тяжелых золотых монет. Старинный праздничный наряд грузинской княжны и лик христианской Мадонны.
Мадонна рассмеялась:
– Не сердись, Али-хан. Чтобы зашнуровать этот наряд, требуется без малого час. Это еще бабушкино наследство. Только ради тебя я и втиснулась.
– Первый танец мой! – воскликнул Ильяс-бек.
Нино вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Танцевал я неохотно и неуклюже, а Ильяс-беку вполне мог доверить Нино. Ведь он знал, как себя вести.
– «Молитву Шамиля!» – крикнул Ильяс-бек.
Слепые музыканты тотчас же, без перехода, заиграли безудержную, неистовую мелодию…
Ильяс в один прыжок оказался в середине зала и выхватил кинжал. Ноги его замелькали в зажигательном ритме кавказского горского танца. Клинок сверкал у него в руке. Нино, танцуя, приблизилась к нему. Маленькие ножки ее семенили, напоминая чудесные игрушки. Начался танец, подобный таинству, священнодействию. Мы принялись в такт хлопать в ладоши. Нино изображала невесту, которую вот-вот похитит пылкий возлюбленный… Ильяс зажал нож в зубах. Раскинув руки, словно превратившись в горного орла, закружил он вокруг девушки. Нино полетела по залу, непрестанно вертясь, точно в водовороте, за ножками ее нельзя было и уследить. Своими гибкими руками передавала она все стадии похищения: страх, отчаяние и покорность. В левой руке она сжимала платок. Она дрожала всем телом. Лишь монеты, украшавшие ее шапочку, лежали не шелохнулись, как полагается, а добиться, чтобы в этой неистовой пляске они оставались неподвижными, было труднее всего. Только грузинке по силам пройти по залу, кружась в бешеном танце, так, чтобы ни одна монета у нее на лбу не звякнула. Ильяс неустанно преследовал ее. По кругу обходил он следом за нею зал, не отставая ни на шаг. Взмахи его рук становились все более повелительными и властными, все нежнее делались жесты Нино, словно защищающейся от притязаний похитителя. Наконец она замерла, точно испуганная, настигнутая охотником лань. Ильяс теперь описывал круги все уже и уже, с каждой минутой приближаясь к жертве. Все быстрее и быстрее становились его прыжки. Нино глядела на него ласково и смиренно. Руки ее дрожали. В последний раз, словно взвыв, застонали персидские музыкальные инструменты, и Нино разжала левую руку. Платок упал на пол. И в то же мгновение кинжал Ильяса низринулся на маленький клочок шелка, пригвоздив его к полу.
Так завершился этот танец, символическое изображение страсти…
Кстати, а упоминал ли я, что перед танцем передал Ильяс-беку свой кинжал, а себе взял его оружие? Платок Нино пронзил мой собственный кинжал. На всякий случай я решил перестраховаться, недаром ведь мудрое правило гласит: «Прежде чем доверить верблюда защите Аллаха, покрепче привяжи его к забору».
Глава пятая
– Ступив на эту землю, дабы снискать славу и возбудить в соседях страх и благоговение, наши великие предки, о хан, воскликнули: «Кара бак!» – «Гляди-ка… здесь лежит снег!» А приблизившись к горным склонам и узрев девственный лес, воскликнули: «Карабах!» – «Черный сад!» С тех пор и носит эта земля имя Карабах. А раньше она именовалась Сюник, а еще раньше – Агванк. Ибо ты должен знать, о хан, что земля наша древняя и славная.
Старик Мустафа, мой хозяин, у которого я поселился, приехав в Шушу, с достоинством замолчал, осушил чарку карабахской фруктовой водки, отрезал кусочек странного сыра, свитого из бесчисленных нитей и видом напоминавшего женскую косу, и продолжал болтать:
– В наших горах обитают каранлык – темные духи, они охраняют наши сокровища, это всякому ведомо. А вот в лесах возвышаются священные камни и текут священные ручьи. У нас чего только нет. Пройдись по городу да погляди, работает ли кто, – таких почти и не сыскать. Погляди, грустит ли кто, – таких и вовсе нет. Погляди, есть ли среди нас трезвые, – таких тоже нет! Не удивительно ли это, господин?
Но меня удивляла изысканная, восхитительная лживость этого народа. Ради прославления своей маленькой земли карабахцы готовы выдумать что угодно. Вчера один толстяк-армянин пытался уверить меня, будто христианской церкви Мегрецоц в Шуше пять тысяч лет.
– Ты ври, да не завирайся, – возразил я, – христианству меньше двух тысяч лет. Не могла же христианская церковь быть построена до рождения Иисуса.
Толстяк принял весьма оскорбленный вид и укоризненно произнес:
– Конечно, ты человек образованный. Но послушай старика: может быть, к другим народам христианство и пришло две тысячи лет тому назад, а нас, жителей Карабаха, Спаситель просветил еще на три тысячи лет раньше. Вот как все было.
Спустя пять минут тот же человек как ни в чем не бывало поведал мне, что французский маршал Мюрат по происхождению-де армянин из Шуши. Он, мол, ребенком переселился во Францию, дабы и там прославить карабахскую землю.
Еще по дороге в Шушу кучер, когда мы переезжали по маленькому каменному мостику, сказал:
– Этот мост возвел Александр Великий, отправляясь в Персию, где обессмертил себя подвигами.
На низких перилах красовалась высеченная крупными цифрами дата: 1897. Я показал ее кучеру, но тот только пренебрежительно рукой махнул:
– Ах, господин, это русские добавили задним числом, чтобы умалить нашу славу.
Шуша показалась мне странным городом. Расположенная на высоте пяти тысяч метров над уровнем моря, населенная армянами и магометанами, она много веков играла роль некоего моста между Кавказом, Персией и Турцией. Это красивый город, окруженный горами, лесами и реками. Горы и долины усыпаны маленькими глинобитными хижинами, которые здесь с наивной важностью величают дворцами. Там живут местные аристократы, армянские мелики и нахарары, азербайджанские беки и агалары. Эти люди часами сидели на пороге своих домиков, курили трубки и рассказывали друг другу, как часто Россию и лично царя спасали генералы – уроженцы Карабаха и какая судьба неизбежно постигла бы Российскую империю, если бы Карабаха не было.
Семь часов добирались мы от маленькой железнодорожной станции на конной повозке вверх по крутой, извилистой горной дороге в Шушу: мы – это я и мой кочи. По роду занятий кочи – охранники, а по личной склонности – разбойники. В обязанности кочи входит стеречь дома и оберегать покой их обитателей. Вид у них весьма воинственный, они с головы до ног увешаны оружием и предпочитают хранить мрачное молчание. Быть может, безмолвствуя, они предаются воспоминаниям о лихих делах прошлого, а быть может, просто так помалкивают, и все. Мой отец послал со мною в дорогу кочи, чтобы тот защищал меня от незнакомцев или незнакомцев от меня. Я так до конца и не понял. Охранник мой был любезен, состоял в отдаленном родстве с семейством Ширваншир и был надежен, как могут быть только родственники на Востоке.
Пять дней просидел я в Шуше в ожидании приезда Нино, с утра до вечера слушал рассказы о том, что все богачи, храбрецы и вообще хоть сколько-нибудь замечательные люди в мире родом отсюда, гулял в городском парке и пересчитывал церковные купола и минареты. Шуша явно была очень богобоязненным городом. Семнадцати церквей и десяти мечетей должно было с избытком хватить шестидесяти тысячам жителей. Кроме того, город мог похвастаться расположенными поблизости многочисленными святынями, прежде всего, конечно, знаменитой усыпальницей, святилищем и двумя деревьями святого Сары-бека, посмотреть которые карабахские хвастуны потащили меня в первый же день.
Усыпальница святого находится в часе езды от Шуши. Каждый год весь город отправляется в паломничество к его гробнице, а потом устраивает пир в священной роще. Люди особенно благочестивые ползут туда на коленях. Это весьма затруднительно, но чрезвычайно повышает репутацию паломника. К деревьям, растущим у гроба святого, ни в коем случае нельзя прикасаться. Всякого, кто дотронется хотя бы до одного древесного листочка, тотчас же разобьет паралич. Вот сколь велика власть святого Сары-бека! Какие чудеса совершил этот святой, мне никто объяснить не смог. Зато описали во всех подробностях, как однажды он, преследуемый врагами, прискакал на коне на вершину той самой горы, где сейчас стоит город Шуша. Преследователи уже настигали его. И тут его конь одним прыжком перелетел через гору, через скалы, через весь город Шушу. На том месте, где копыта его скакуна вновь коснулись земли, богобоязненный человек и по сию пору может узреть следы благородного коня, глубоко отпечатавшиеся в камне. Так уверяли меня жители Карабаха. Когда же я выразил некоторые сомнения в возможности такого прыжка, они негодующе возразили: «Но, господин, это же был карабахский конь!» И тогда они поведали мне легенду о карабахском коне: все-де в их краях прекрасно. Но прекраснее всего – карабахский конь, тот знаменитый конь, в обмен на которого Ага-Мухаммед, шах персидский, предлагал весь свой гарем. (А разве мои друзья не знали, что Ага-Мухаммед был скопец?) Конь этот почитается едва ли не священным. На протяжении столетий мудрецы ломали головы, как бы вывести непревзойденного скакуна, скрещивая разные породы, и вот наконец на свет появилось это чудо, лучший конь в мире, знаменитый золотисто-рыжий конь карабахской породы.
Все эти похвалы возбудили мое любопытство, и я попросил показать мне такого восхитительного коня. Но спутники лишь поглядели с состраданием:
– Легче проникнуть в гарем султана, чем в стойло карабахского коня. Во всем Карабахе не наберется и дюжины чистокровных золотисто-рыжих коней. Кто их увидит, считается конокрадом. Только при объявлении войны владелец седлает своего золотисто-рыжего чудесного скакуна.
Поэтому мне пришлось удовольствоваться одними рассказами о легендарном коне и вернуться в Шушу. И вот я сидел, внимая болтовне старика Мустафы, ждал Нино и чувствовал себя покойно и уютно в этом сказочном краю.
– О Хан, – промолвил Мустафа, – твои предки вели войны, а ты человек ученый и посещал дом знаний. Поэтому ты наверняка слышал об изящных искусствах. Персы гордятся Саади, Гафизом и Фирдоуси, русские – Пушкиным, а далеко на Западе жил поэт, которого звали Гёте и который написал поэму о дьяволе.
– И все эти поэты тоже происходят из Карабаха? – перебил я его.
– Нет, мой благородный гость, но наши поэты лучше, даже если они и отказываются запечатлевать звуки мертвыми буквами. Преисполнившись гордости, они не записывают свои стихи, а лишь произносят наизусть.
– Кого ты имеешь в виду? Ашугов?
– Да, ашугов, – с важностью откликнулся старик. – Они живут в деревнях неподалеку от Шуши, и на завтра у них назначено поэтическое состязание. Хочешь съездить к ним? Послушать да подивиться?
Я не возражал, и на следующий день наша повозка покатила по извилистой горной дороге вниз, в деревню Дашкенд, цитадель кавказского поэтического искусства.
Почти в каждой карабахской деревне найдутся местные певцы, которые всю зиму напролет сочиняют, а весной отправляются бродить по свету, исполнять свои песни во дворцах знати и в хижинах простолюдинов. Однако существуют три деревни, населенные исключительно поэтами и в знак того почета, которым пользуется поэзия на Востоке, освобожденные от любых податей и налогов в пользу местных феодалов. Одна из этих деревень – Дашкенд.
С первого взгляда можно было понять, что жители этой деревни не простые крестьяне. Мужчины расхаживали с длинными волосами, в шелковых кафтанах и недоверчиво косились друг на друга. Женщины держались в тени, вид имели печальный и носили за мужьями музыкальные инструменты. В деревне собралось полным-полно богатых армян и магометан, которые устремились сюда со всей страны, чтобы насладиться искусством ашугов. Маленькую площадь в деревне поэтов заполонила толпа любопытных, жаждущих увидеть необычайное зрелище. Посреди площади замерли двое охваченных воинственным пылом знаменитых поэтов, которым предстояло вступить в ожесточенный поединок. Они насмешливо поглядывали друг на друга. Их длинные кудри развевались на ветру. Один ашуг воскликнул:
– От твоих одежд несет навозом, лицом ты походишь на свинью, таланта у тебя меньше, чем волос на животе девственницы, а за гроши ты готов написать хулительные стихи на себя самого.
Другой отвечал отрывисто, резко и мрачно:
– Ты облачился в одеяния катамита, а голос у тебя, как у евнуха. Ты не в силах продать свой талант, ибо никакого таланта у тебя никогда не было. Ты кормишься жалкими крошками, что падают с того стола, за которым пирует мой бесценный дар.
Так они довольно долго бранили друг друга, страстно и несколько монотонно. Зрители хлопали. Потом появился седовласый старец с лицом апостола и назвал две темы поэтического состязания, одну лирическую, другую эпическую: «Луна над Араксом» и «Смерть Ага-Мухаммед-шаха».
Оба поэта возвели очи горé. Потом они запели. Они затянули песнь о жестоком скопце Ага-Мухаммеде, который отправился в Тифлис, чтобы в тамошних серных ваннах вновь обрести мужскую силу. Когда серные ванны не возымели желаемого действия, скопец разрушил город и приказал предать мучительной смерти всех его жителей, мужчин и женщин. Однако на обратном пути, в Карабахе, его настигло возмездие. Остановившись на ночлег в Шуше, он, спящий, был заколот у себя в шатре. Великий шах нисколько не насладился жизнью. Он голодал во время военных походов. Ел черный хлеб и пил кислое молоко. Завоевал множество стран и был беднее последнего нищего, обитателя пустыни. Таков был скопец Ага-Мухаммед.
Свою импровизацию оба певца строили по классическим канонам, причем один весьма детально изобразил муки скопца в стране непревзойденных красавиц, а другой в мельчайших подробностях описал казнь тех же красавиц. Слушатели были довольны. На лбу у поэтов выступила испарина. Потом тот, что держался посмирнее, воскликнул:
– На что походит луна над Араксом?
– На лик твоей возлюбленной, – перебил его мрачный и задиристый.
– Нежно поблескивает золото этой луны, – возгласил смирный.
– Нет, она подобна щиту великого воина, с честью павшего на поле брани, – возразил задира.
Так они постепенно исчерпали весь арсенал поэтических сравнений. Потом оба пропели по песне о красоте луны, об Араксе, вьющемся по равнине, словно девичья коса, и о влюбленных, которые по ночам приходят на берег его и созерцают луну, отражающуюся в речных водах…
Победителем был признан задира. С язвительной улыбкой он принял заслуженный приз – лютню-саз своего соперника. Я подошел к нему. Он с печальным видом взирал в пустоту, пока его латунная чаша наполнялась монетами.
– Ты не рад победе? – спросил я.
Он презрительно сплюнул.
– Разве это победа? Вот раньше были победы! Сто лет тому назад. Тогда победитель мог отрубить голову побежденному. Вот как почитали тогда искусство. А сейчас мы сделались робкими и изнеженными. Никто не готов более проливать кровь за стихи.
– Но теперь ты считаешься лучшим поэтом страны.
– Нет, – ответил он, внезапно еще более погрустнев. – Нет, – повторил он, – я всего-навсего ремесленник. Я не настоящий ашуг.
– А кто же настоящий ашуг?
– На месяц рамазан, – произнес задира, – выпадает таинственная ночь, ночь аль-Кадр. В эту ночь природа на час засыпает. Реки замирают в своем течении, злые духи бросают охранять сокровища. Можно услышать, как растет трава и как переговариваются между собою деревья. Из речных вод поднимаются гурии, а люди, зачатые в эту ночь, становятся мудрецами и поэтами. В ночь аль-Кадр ашуг должен призывать пророка Ильяса, святого покровителя всех поэтов. В должное время пророк является поэту, дает ему отпить из своей чаши и молвит: «Отныне ты настоящий ашуг и узришь все, что ни есть на свете, моими очами». Удостоенному столь несравненного дара теперь покоряются стихии; голосу его повинуются люди и звери, ветра и моря, ведь слово уст его исполнено силы, ниспосланной Всемогущим.
Задира опустился на землю и устроился, опираясь подбородком на ладони. А потом всхлипнул, коротко и злобно.
– Но никто не знает, когда именно бывает ночь аль-Кадр и на какой час этой ночи все засыпает. Поэтому-то и нет на свете настоящих ашугов.
Он встал и ушел – одинокий, мрачный и замкнутый, степной волк в зеленом раю Карабаха.
Глава шестая
Деревья у Пехахпурского источника взирали на небо, словно усталые святые. Вода его журчала, устремляясь по узкому каменистому руслу. Невысокие холмы закрывали вид на Шушу. На востоке карабахские поля постепенно уступали место пыльным азербайджанским степям. Оттуда веяло знойным дыханием великой жаркой пустыни, огнем Заратустры. На юге, подобно пастушеской земле Библии, заманчиво простирались армянские луга. Обступавшая нас роща замерла, ни одно дерево не шелохнулось, словно ее только что покинули последние боги античности. Казалось, это им во славу был разожжен костер, дымившийся сейчас перед нами. Вокруг пламени на разноцветных ярких коврах расположилась компания пирующих грузин и я. У костра громоздились кубки с вином, фрукты, горы овощей и сыра. На мангале, в клубах ароматного дыма, поджаривались на вертеле куски жаркого. Возле источника сидели сазандари, странствующие музыканты. В руках они держали инструменты, сами названия которых звучали как музыка: дойры и чианури, тары и диплипито. Сейчас они как раз пели какой-то баят, любовную песнь в персидском стиле, исполнить которую потребовали городские грузины, чтобы тем острее ощутить прелесть непривычной, сельской и лесной, жизни. Наш учитель латыни назвал бы эту попытку вести себя раскованно и подстраиваться под местные обычаи «дионисийским настроением». А всех этих веселящихся на природе гостей пригласило на ночной праздник только что прибывшее семейство Кипиани.