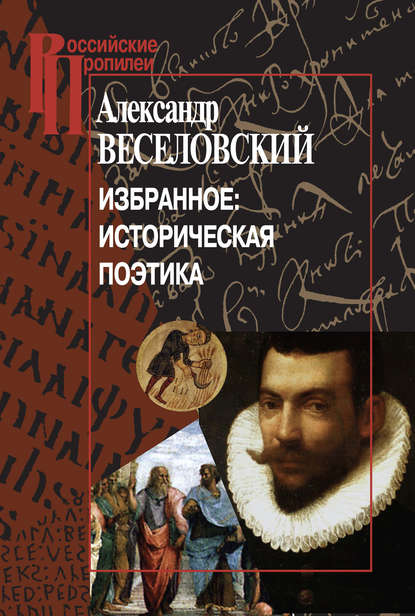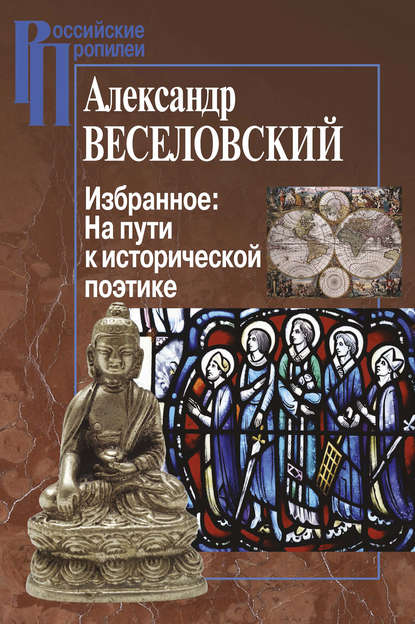Полная версия
Русская классика, или Бытие России
3. Отчаяние Тютчева
Однако, как постоянно твердили русские мыслители, именно в России разрыв между европейски ориентированным слоем образованного общества и народом был многими степенями сильнее, чем в других странах Европы. Если в Московской Руси было общее бесправие, общая внеисторическая жизнь всех сословий, практически единый культурный уровень, то в послепетровское время образовался слой, наделенный правами, широтой культурного общеевропейского выбора, сознававший себя выразителем России. Но остался в прежнем положении народ, то есть сложилась ситуация, при которой, по удачному выражению Владимира Вейдле, «Россия стала нацией, но не включила в нацию народа»[14]. Влияние же почвенных, еще во многом языческих структур народного сознания на национальную ментальность создавало умонастроение, в корне противоположное личностному рефлексивному развитию. Не случайно в своей «Семирамиде» Хомяков замечал, что «русским можно лучше других народов Европы понять переход саг (сказаний) в мифы. Мы еще недавно вышли из эпохи легковерной простоты и затейливой сказочности»[15]. И это умонастроение – от почвенно ориентированных мыслителей до крайних радикалов-нигилистов – утверждало неприменимость к России западных мерок. То, что Чаадаеву казалось трагедией, получило вдруг (среди первых – у И. Киреевского) окраску национальной добродетели, могущей вызывать только гордость и самоуважение. Но не у всех и не сразу. В 1859 г., возвращаясь с Запада домой, Тютчев так описал свое впечатление от Родины:
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —Жизнь отошла – и, покорясь судьбе,В каком-то забытьи изнеможенья,Здесь человек лишь снится сам себе.«На возвратном пути»По Тютчеву, непокорность судьбе есть основной признак самосознающей личности. Здесь же человек себя не сознает, он себе лишь снится, это жизнь вне истории. Понять ее нельзя, ибо это и не природа: ни естественно-научный, ни исторический разум здесь неприменимы. Что остается любящему свою страну поэту? «В Россию можно только верить» – это умозаключение Тютчева 1866 г. Здесь слышится безнадежность помрачнее, чем у Чаадаева. Ничего не может поэт найти утешительного, кроме смиренности и долготерпенья, ибо не в состоянии понять смысл существования России. Тем более «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный…». Только почвенно, кровно сросшийся может не осознать, нет, это невозможно, – почувствовать нечто, а потому и поверить. «Верую, ибо абсурдно», – было сказано на заре «темных веков». Но так можно верить лишь в Бога, как Непостижимого. В данном случае, однако, происходит коренная подмена: вера не в Бога, а в место. А это чревато определенными последствиями.
4. Языческий бунт в России и Западной Европе
Ведь если Россия является сакральным пространством, особым образом устроенным, которое живет по законам, неподвластным принципам жизнеустроения остального мира, то бог этого места, разумеется, не наднациональный Бог, для которого «несть ни эллина, ни иудея», а бог языческий.
Невероятное усилие русских писателей и мыслителей конца XIX века по христианизации России было в значительной степени продиктовано испугом, причину которого указал Достоевский, предъявив читателям угрозу беса Верховенского: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам…» Об этом же и тревога С.Н. Булгакова, беспокоившегося о недостаточной укорененности христианства в русском народе: «Конечно, необразованный простолюдин совершенно бессилен отнестись критически и безоружен, как ребенок, перед наплывом новых учений. И с той же легкостью, с какой уверовали в неверие некогда его просветители, принимает и он безрадостную, мертвящую веру в неверие. Не приходится преувеличивать сознательности и прочности этой его старой веры, разлагающейся иногда от первого прикосновения»[16]. Удар «неоязычества» (С.Н. Булгаков) был тем сильнее, что народная вера, как показали русские богословы, включала в себя на равных правах веру в Христа и во всякую почвенно-языческую нечисть, иными словами, о преобладании Христа в сознании простолюдина было говорить рано: «Баба, ходившая “снимать килу” к колдуну, не чувствует себя согрешившей; она с чистым сердцем будет после этого ставить свечи в церкви и поминать там своих покойников. В ее сознании Церковь и колдун просто разные департаменты»[17].
Язычество, которое, по слову Чернышевского, сохранялось не только в России, а также в Германии и других вроде бы цивилизованных странах, вполне доказало свою жизнеспособность и силу, девестернизируя и дегуманизируя европейское сознание. Это с приходом фашизма констатировал Томас Манн: «Есть в современной европейской литературе какая-то злость на развитие человеческого мозга, которая всегда казалась мне не чем иным, как снобистской и пошлой формой самоотрицания. <…> С модой “на иррациональное” часто бывает связана готовность принести в жертву и по-мошеннически отшвырнуть достижения и принципы, которые делают не только европейца европейцем, но и человека человеком»[18]. Россия попала в этот общий поток, возникший после взрыва в Европе подсознательных, почвенно-языческих инстинктов, которые возжелали управлять историческим процессом, тем самым отрицая его надсубъективную силу и смысл.
Инициированные христианством принципы исторического развития человечества по сути дела отрицались в тех странах, где восторжествовали почвенные боги, превратившие даже интернациональные идеи в племенные. Очень хорошо ложилась в этот контекст «непостижимость России».
5. Мифологическое знание – знание вне и помимо понимания
Скрещение «чужого» рационального разума и почвенных влияний – языческих, порой почти магических, как показал Флоренский, – родило национальный (скорее даже, националистический) миф о России как стране, неподвластной пониманию. Существенно уточнить, что неподвластна она казалась именно уму, как порождению инородного Запада. Знание о стране давалось непосредственным, бытовым, можно сказать, физиологическим соприкосновением с ней, сопереживанием, чувственной пронизанностью ее почвенными токами. Так утверждается в России специфический феномен знания помимо и вне понимания, враждебный воспитанию и образованию свободно и самостоятельно мыслящего человека. Эту националистическую традицию вполне усвоили (хоть и бессознательно, я полагаю) большевики.
Не случайно победил в России не рациональный марксизм легальных марксистов, а «выстраданный», если воспользоваться термином Ленина. Этот «выстраданный» Маркс занял место национального идола. Книги Маркса можно было открыть, а можно и не открывать: и без чтения правда жизни очевидна.
Это гениально выразил в предсмертной поэме Маяковский:
Мы открывали Маркса каждый том,как в доме собственном мы открываем ставни,но и без чтения мы разбирались в том,в каком идти, в каком сражаться стане.В советской жизни после победы революции возник весьма обширный и влиятельный слой людей, исполнявших роль идеологических жрецов, которые не читали Маркса, не понимали марксизм, но разбирались и знали твердо, что про него надо говорить и каким образом орудийно использовать. Утверждения Каутского и других западных социал-демократов, что ленинцы идут против теории, были с презрением отвергнуты как мещанские, т. е. такие, которым доступен только поверхностный, понятийный слой жизни, но заказан путь к истине «живой жизни». Рассудочности, логистике, «отвлеченному разуму» (И.В. Киреевский) снова противопоставлялась наша глубина, которая недоступна пониманию западных мыслителей.
6. Мифология как жизнь вне разума, или Словесное пьянство
Блестящий шарж на подобное национальное самовозвеличение можно найти в «Арабесках» Андрея Белого:
«Говорят, что широкая славянская натура чуждается тех рамок, в которых с таким удобством уживается натура немца. Говорят, что славяне глубже французов. Глубина и ширина сочетаются в нас, русских. <…> Глубина отрывает от жизни, ширина сжигает душу – и беспочвенный, но широкий и глубокий русский интеллигент оказывается с отчаянием в душе и опущенными руками пьяницей после запоя. <…> Или тугоумен Кант? Быть может, тугоумна немецкая культура и мы пользуемся всеми этими Кантами, Марксами, Вагнерами и Бетховенами только для того, чтобы, претворив их в нашей глубокой и широкой душе, явить миру десятки Марксов! <…> За границей есть строгое разделение повседневной жизни от жизни творческой. <…> У нас нет повседневности: у нас везде святое святых. Везде проклятая глубина русской натуры отыщет вопрос. <…> И как пьянице вино, так интеллигенту – словесное общение; предмет общения: всегда проклятый вопрос. И мы углубляем вопрос до невероятности. А ответ на вопрос – живой, действительный акт – убегает в неопределенность. Оттого-то у нас все вопросы – вопросы проклятые. <…> Так создаем мы себе убеждение, что мы необыкновенно глубоки. Но глубина эта – часто словесное пьянство. Да, слова наши – пьянство. И часто мы в кабаке. Кабак всегда с нами»[19].
Парадоксальным образом этот шарж подтвердил Александр Зиновьев, с настойчивостью доказывавший во всех своих произведениях, что пьяный словесный всплеск российского интеллигента, отрицающего саму возможность понять окружающую действительность, важнее и сложнее не только коммунистической партийной идеологии, но и западного сухого рационализма. Непонимание мира было объявлено им глубиной. Ограниченность подобной критики сделалась очевидной, когда русские партократы и сталинисты стали причисляться философом-диссидентом к выразителям непостижимой российской сущности. Основной рефрен его текстов: Западу нас не понять, он может нас переиграть, но по-прежнему не понимая, с кем или с чем имеет дело. Самоуничижение сливается с «чувством законной гордости» за собственное неумение жить. И думать. И понимать. Западу не понять, а Зиновьеву знание о России дано нутряно, почвенно, экзистенциально, если не побояться западного термина.
Впрочем, подобное знание было всем нам явлено в советские времена в «письмах трудящихся»: «Я Пастернака не читал (т. е. не хочу понять), но знаю, что он наш злейший враг». И т. п. Этот иррационализм стал нашей повседневностью, чтобы не сказать – нормой жизни. Механизм культуры, отказывающейся от самопознания, несмотря на усилия писателей и мыслителей ХIХ столетия, возобладал, создавая в умах инакомыслов не желание понять, а ощущение доблести: «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», совершенно непостижимо – а мы боремся с ним. Такое сознание льстило и власти, придавая ей сакральную глубину. В постперестроечные времена это чувство непостижимости сказалось в ставших общеизвестными словах государственного человека (В.С. Черномырдина): «Хотели, как лучше, получилось, как всегда». То есть присутствует в нашей реальности нечто, не поддающееся осознанию, пониманию и переделке.
А раз невнятен высший смысл бытия в этой культуре и чужд ей сложный Пастернак, враждебны Замятин, Ахматова и Зощенко, неизвестны творения отечественных философов, то ничего другого не остается как описывать ее (что и делали писатели «деревенщики»: Василий Белов, Валентин Распутин и др.) этнографически, как некогда Миклухо-Маклай страну папуасов. Но поскольку писали о себе, то не научно-аналитически, как о дикарях ученый, а ностальгически-умиленно. Хотя тоже безо всяких поисков у своих героев стремлений духа, работы мысли, высокой страсти. Злокозненно-изворотливым умом наделялись, как правило, персонажи – пришельцы из западной цивилизованной жизни, ибо ум с его разлагающим анализом противопоказан, конечно же, ладу почвенного мира. Противоположности, однако, сходятся: нынешние постмодернисты тоже исходят из непонятности, неподвластности рассудку принципов российской жизни. Они поэтому работают на уровне партийно-коммунистических клише, передразнивая их, но отказываясь от обсуждения отечественных проблем и коллизий по существу.
7. Понимание России умом есть национальная добродетель
Русская классика – от Пушкина до Бунина – была одержима стремлением понять свою страну, свою действительность, тем самым как бы переналадить механизм культуры, демифологизировать ее, десакрализировав все ее понятия и учреждения: от помещиков и чиновников (Гоголь), государства и церкви (Лев Толстой), купечества (Островский), интеллигенции и крестьянства (Чехов и Бунин), армии (Куприн и Замятин) и т. п.
Трагично бытие людей, желающих понимать. Реальность, утвердившаяся на почве бесчеловечного мифа, отрицавшего разум, была безусловно и категорически отвергнута Мандельштамом, искавшим опору именно в разуме, в рацио. В статье «Девятнадцатый век» (1922) он сформулировал это: «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. <…> Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – ratio энциклопедистов – священный огонь Прометея»[20]. Поэт оказался прозорливее многих своих ученых современников, винивших во всех бедах нашей жизни рационализм западной теории. Ее достоинства и недостатки обсуждать здесь не имеет смысла, ибо речь о другом. О том, что наша жизнь очень долго была построена на пафосе непонимания – запрете мысли, чтения и попыток самостоятельного размышления о судьбах мира.
Желая свободы мысли, возможности самореализации, не стесненного догмами образования, правового и открытого общества, мы встаем перед неимоверно сложной проблемой. Можем ли мы рассчитывать хоть как-то повлиять на идущий исторический процесс? Говоря словами поэта, «европеизировать и гуманизировать» его? Очевидно, не более того, как удалось это самому Мандельштаму. Однако ему и другим «потерпевшим крушение» в ХХ столетии гуманистам на самом деле удалось многое. Они сохранили и передали нам свое отношение к миру. И от наших усилий зависит сегодня не просто беседовать (или «вести дискурсы» по поводу), но – понимать. Утверждая понимание России умом как национальную добродетель. Чтобы эта добродетель стала фактом культуры, способным к дальнейшей ретрансляции.
II. Является ли Россия исторической страной? К спорам о евразийстве
1. Проблема бытия России
Этот странный вопрос напрашивается как вывод из утверждения, что Россия есть Евразия, т. е. объяснения смысла и идеи России через географию. Когда-то Чаадаев сетовал, что Россия находится вне истории, что она не более чем географическое понятие. Тогда это казалось пределом национальной самокритики. Евразийцы обратили этот «географизм» в национальную добродетель, объявив большевистскую Россию (как отринувшую Россию петровскую) полной и абсолютной наследницей Джучиева улуса, апеллируя в том числе к фактору пространства: те же размеры, те же кочевые просторы. И такая же вражда к «романо-германской Европе», живущей прежде всего в системе временных координат, а не только пространственных. Представлялось, что Россия вырвалась за пределы исторического развития. «Довольно жить законом, // данным Адамом и Евой», – провозглашал первый поэт революции Владимир Маяковский. Эренбург в романе «Трест Д. Е.» изображал распад Европы и движение революционных голодных орд из России на Запад с лозунгом «Даешь Европу!», завершая роман картиной выжженного, разрушенного европейского пространства, пригодного лишь для передвижения кочевников. «Наше едва остывшее кочевье» [21], – называл Есенин Советскую Россию. Быть может, трагичнее прочих ощутил ситуацию конца истории Мандельштам, поэт европейского духа и склада, в стихотворении: «Сумерки свободы» (1918):
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,Как твой корабль ко дну идет.Так что евразийский апофеоз «ордынского начала» как бы венчал картину «гибели западной цивилизации». Цивилизации, взлелеявшей историю и утвердившей в мире пафос исторического развития.
Здесь стоит вспомнить, что в трактовке судьбы России у С.М. Соловьёва важную роль играло понятие «внутренней Степи». Он писал, что после победы над «внешней Степью», т. е. татаро-монголами, строящуюся и цивилизующуюся Русь сбивали с этой дороги бунты, иными словами, восстания «внутренней Степи». Так что после победы в октябре 1917 г. народной, «скифской» стихии естественно было вспомнить о катастрофе, постигшей Киевскую Русь в результате татарского нашествия. В «Окаянных днях» об этом с ужасом писал Бунин (1917–1918), вспоминая, что уже в шестнадцатом он предвидел нечто подобное:
Вот встает бесноватых ратьИ, как Мамай, всю Русь пройдет…С другой стороны, значительная часть интеллигенции – еще со времен Герцена – готова была встретить, да и встречала «грядущих гуннов» «приветственным гимном» (В.Я. Брюсов). Но и для этих, «приветствовавших», продолжавших линию «покаяния интеллигенции перед народом» победа «гуннов» означала закат всяческой культурной деятельности («мудрецы и поэты» прячутся «в катакомбы, в пустыни, в пещеры») и уход народа из истории. После налета таких стихийных сил «история прекращает течение свое» (Салтыков-Щедрин в «Истории одного города»). Об этом говорил и Пушкин: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства»[22]. Зато евразийцы восприняли уничтожение петровско-пушкинской цивилизации в России с восторгом и попытались обосновать причины своего восторга. Имеет смысл еще раз взглянуть на эти обоснования, ибо они почти без изменений перешли в лексикон и аргументацию современных неоевразийцев.
2. Национальные святыни и предания
И первое, о чем надо сказать в этом аспекте, – об игнорировании, точнее даже о перечеркивании евразийцами национальных святынь и преданий. Речь идет об отношении народа к татарскому нашествию, как оно отразилось в летописях, былинах, сказаниях и песнях и как это нашествие трактовалось евразийцами. Вот несколько фраз из «Летописных повестей о монголо-татарском нашествии»: «В тот же год пришли из восточных стран <…> безбожные татары… Много святых церквей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду богатую добычу… Старых монахов, и монахинь, и попов, и слепых, и хромых, и горбатых, и больных, и всех людей убили, а юных монахов, и монахинь… увели в станы свои… А епископ Митрофан, и княгиня Юрия с дочерью, и со снохами, и с внучатами, и другие, княгиня Владимира с детьми, и многое множество бояр и простых людей заперлись в церкви святой Богородицы. И были они здесь без милости сожжены… Татары <…>. разграбили все монастыри и иконы ободрали, а другие разрубили, а некоторые взяли себе вместе с честными крестами и сосудами священными, и книги ободрали, и разграбили одежды блаженных первых князей, которые те повесили в святых церквах на память о себе… Расправились татары со всеми <…> И было видеть страшно и трепетно, как в христианском роде страх, и сомнение, и несчастье распространялись»[23]. Характерны и названия летописей XIII – начала XV в., все они повествуют о трагедии народа: «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора», «Повесть о побоище на реке Пьянее», «Повесть о битве на реке Вожа», «Задонщина», «Летописная повесть о Куликовской битве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Тохтамыша», «Повесть о Темир-Аксаке», «Сказание о нашествии Едигея» и т. д. и т. п. Перечень бесконечен. Одна из самых поэтических и печальных русских легенд – «Легенда о граде Китеже» – тоже связана с Батыевым нашествием. Она повествует, как разоренный и разграбленный, а некогда прекрасный и цивилизованный город на берегу озера Светлояр стал невидим «вплоть до пришествия Христова»[24], тогда и вернется он на Русь как символ русского города, некогда погубленной городской культуры. Все русские былины говорят о борьбе со Степью как главной задаче русских богатырей, а былина «С каких пор перевелись витязи на Святой Руси» описывает последний бой знаменитых богатырей – с татарским воинством, фиксируя конец русского богатырства, русского рыцарства с приходом монголов. Интересно, что кочевые пришельцы воспринимались как «сила нездешняя», которая множится, а потому не может быть уничтожена. Всех они могли победить…
И стали витязи похвалятися:«Не намахалися наши могутные плечи,Не уходилися наши добрые кони,Не притупились мечи наши булатные!»И говорит Алеша Попович млад:«Подавай нам силу нездешнюю, —Мы и с тою силою справимся!»Как промолвил он слово неразумное,Так и явились двое воителейИ крикнули они громким голосом:«А давайте с нами, витязи, бой держать!Не глядите, что нас двое, а вас семеро».Не узнали витязи воителей.Разгорелся Алеша Попович на их слова,Поднял он коня борзого,Налетел на воителейИ разрубил их пополам со всего плеча, —Стало четверо – и живы все.Налетел на них Добрыня-мóлодец,Разрубил их пополам со всего плеча, —Стало восьмеро – и живы все.Налетел на них Илья Муромец,Разрубил их пополам со всего плеча, —Стало вдвое более – и живы все.Бросились на силу все витязи,Стали они силу колоть-рубить, —А сила все растет да растет,Все на витязей с боем идет.Не столько витязи рубят,Сколько добрые кони их топчут, —А сила все растет да растет,Все на витязей с боем идет.Бились витязи три дня,Бились три часа, три минуточки, —Намахалися их плечи могутные,Уходилися кони их добрые,Притупились мечи их булатные.А сила все растет да растет,Все на витязей с боем идет.Испугались могучие витязи,Побежали в каменные горы,В темные пещеры.Как подбежит витязь к горе,Так и окáменеет;Как подбежит другой,Так и окáменеет;Как подбежит третий,Так и окáменеет.С тех-то пор и перевелись витязи на Святой РусиТакова печальная мета в народном сознании, связанная с трехсотлетним игом.
Заметим, что на фоне постоянной борьбы со Степью ни разу – до сражений Александра Невского с немцами и со шведами, которых он победил «с небольшой дружиной», – не говорится в русских летописях и былинах об угрозе с Запада. Более того, и эти-то сражения произошли уже после захвата Руси татаро-монголами. Но евразийцы исходят из априорного убеждения, что Русь была обречена стать жертвой какого-либо захватчика, а потому ей повезло, что она попала под владычество татар. «Велико счастье Руси, – писал Савицкий, – что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, и не кому другому. Татары… не замутили чистоты национального творчества»[25]. Для евразийцев – от П.Н. Савицкого до Л.Н. Гумилёва, с гордостью рассказывавшего, как он пил в память Чингисхана, – татарское нашествие представляется великой удачей русского народа, ибо благодаря нескольким столетиям рабства на территории бывшей татарской империи возникло могучее военное государство, ни во что не ставившее жизнь и свободу своих подданных (большинство было в крепостной неволе), зато чрезвычайно влиятельное на международной арене. Ибо именно внешняя мощь, а не духовное развитие, не рост благосостояния людей первенствует в концепции евразийцев.
Не буду вспоминать известные слова Пушкина, что духовная жизнь порабощенного народа не развивалась, приведу простые факты: «Последствия нашествия были катастрофичны: тысячи погибших воинов, тысячи разоренных жилищ и сел, десятки оставшихся в руинах городов, многие тысячи угнанных в плен мужчин и женщин, резкое сокращение населения страны», возродились «архаичные формы эксплуатации, вызвав демографический кризис в стране… Всех самых квалифицированных ремесленников отправляли в Орду… На Руси же в результате исчезли многие отрасли ремесла; была забыта техника перегородчатой эмали, производства стеклянных бус, черни, зерни, скани (художественной обработки благородных металлов). В других ремеслах произошло опрощение и огрубление технических приемов. Почти на целое столетие прекратилось каменное строительство в русских городах»[26]. Стоит ли говорить о нравственных, хозяйственных и экономических последствиях ига!
Но, даже став на позицию евразийства и полагая главным мощь государства, мы заметим, что вследствие татарского нашествия ослабленная Русь потеряла возможность укрепиться в Прибалтике, отдав эти территории немецким духовно-рыцарским орденам, и только спустя пять столетий, при Петре, получила доступ к Балтийскому морю. Заметим к тому же, что если в XIV веке, скажем, в Германии было около 20 млн жителей, то в России, во много раз превосходящей ее по территории, население от XV к середине XVII века, возросло с 2–3 млн до 7 млн. А надо ведь еще учесть и сибирские пространства. Это и есть результат демографического кризиса, вызванного игом. Спрашивается, возможно ли в такой пустынной стране строить цивилизацию, входить в мировую систему как промышленная или хотя бы как сельскохозяйственная страна, просто утверждать какие бы то ни было социально-общественные связи между людьми, выйти из системы пространственных координат в систему временны´х, обрести самосознание и тем самым войти в исторический процесс?.. Этот возврат в историю стоил России неимоверных усилий, но и необходимых – ибо вектор ее развития был направлен в Европу.