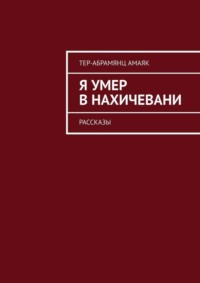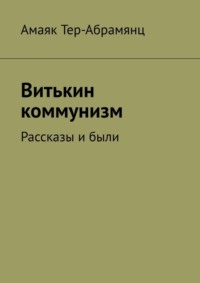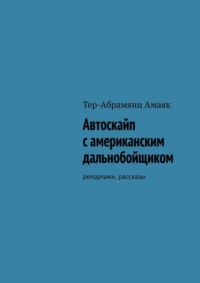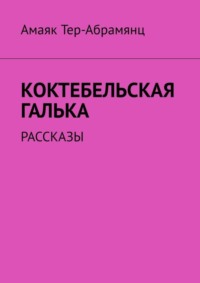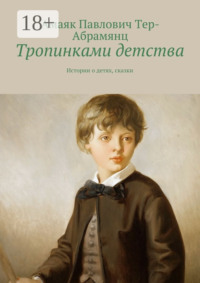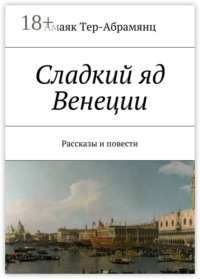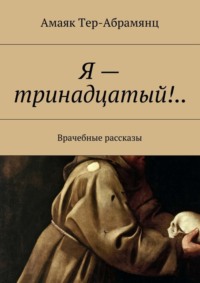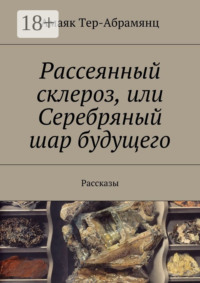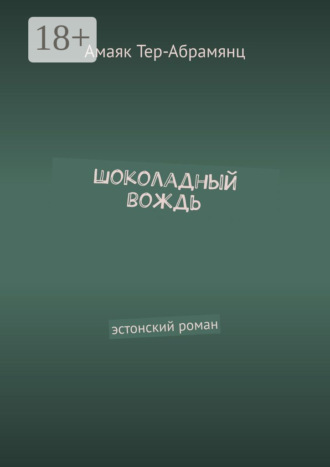
Полная версия
Шоколадный вождь. Эстонский роман
Очень скоро Климов узнал, что Марта ненавидит и презирает всё советское и русское (она не разделяла эти понятия) и ужаснулся. Он-то, со свойственной молодости самоуверенностью, думал, что сможет сделать, благодаря любви, с этой женщиной то же, что скульптор делает с глиной, придавая ей нужную форму, но оказалось, что он имеет дело не с пластилином, из которого можно творить желаемое, а с твёрдой гранитной скалой, человеком совершенно сформированных убеждений.
Марта говорила ему прямо такие вещи, от которых волосы приподнимали его флотскую фуражку с кокардой. О таких взглядах полагалось сообщать «куда следует», но о таком он и помыслить не мог. Он был уверен в своих убеждениях, был уверен, что Марту всё же удастся переубедить.
Спорили они часто. Ещё в училище Володя изучал Маркса с огромным искренним интересом. Казалось, на каждый теоретический вопрос он мог бы ответить, но Марта крыла его всякий раз примерами из жизни, и часто после очередного «почему» Марты спор обрывался, и Володя, не находя немедленного ответа, долго рылся в конспектах, листал двухтомник избранного Маркса и даже ходил в библиотеку дома офицеров, где имелось полное собрание сочинений классиков марксизма. Но и там он часто не находил ответа на простые вопросы и вздыхал, сетуя на свою малообразованность. Бредовых текстов Ленина, представляющих определённый интерес для психиатра, как обычный, нормальный, мыслящий человек, он вообще не понимал, но относил это за счёт своего недостаточного интеллектуального развития. Что-то подсказывало ему, что браться за аргументы Сталина – запрещённый приём, тем более, что втайне считал преждевременным оценивать его теоретические постулаты.
Тем более что у Марты вдруг появился неожиданный союзник в спорах с Владимиром – их сосед, профессор Шулегин – во всяком случае, в том, что касалось существующей власти. Что касалось Эстонии и России, мнения Марты и профессора расходились. Профессор был русофилом, а Марта – ярой сторонницей идеи независимости Эстонии.
Старик сосед и молодой морской офицер быстро сблизились и частенько проводили вечера на кухне за чаем, беседовали, и Шулегин поражался, как мало знает советский офицер, а Климов жадно глотал старые книги по истории России с ятями, которые давал ему профессор, – Карамзина, Соловьёва, Ключевского… Он понимал, что эти книги запрещены, но с удивлением не находил в них ничего антисоветского.
Внутреннее состояние Климова оказалось взбаламученным, смутным: кто враг, кто друг? – неужели нет той системы, которая сразу всё определила бы? Неужели мир настолько сложен, что каждый атом необходимо оценивать в отдельности?
Но в лучшие мгновения с Мартой растворялось «высшее» – политическое, классовое, национальное… разделяющее человечество, обязывающие ненавидеть и презирать огромное число незнакомых людей.
Марта говорила часто такое, во что поверить с первого раза было порой просто невозможно. К примеру, что в буржуазной Эстонии жили вовсе не плохо и даже лучше по сравнению с нынешним временем (это прямо противоречило заученной идее, что при социалистическом строе народ живёт лучше, чем при капитализме), что советские газеты врут, что многих арестовывают ни за что и отправляют в Сибирь – последнее, к сожалению, он видел вокруг себя всё чаще – исчезновение людей, целых семей, объявленных вдруг врагами народа, и были среди них те, о которых он точно знал – никакими врагами быть они не могут. Ну, это ошибка, ну, это исключение – уговаривал он себя на первых порах. Но уж очень много таких «исключений» с каждой неделей набиралось – брали и эстонцев, и русских, и евреев, и татар… Беда была в том, что он был от природы человеком анализирующим, и чем дальше, тем больше получалось, что Марта права…
Марта обладала быстрым рациональным умом и частенько ставила его в тупик и по теоретической части, безжалостно расшатывая его внутреннюю целостность. «Как же так, – насмешливо говаривала она, – твой Маркс считает классовые противоречия движущей силой общества, а как же сможет существовать твой коммунизм, если все противоречия исчезнут?» – «Ты, ты погоди, – махал он рукой, – ты не смешивай…» – «А ты объясни!» – «Конечно, объясню! – говорил он и кидался в комнату рыться в томах избранных сочинений Маркса и Энгельса, – вот я тебе сейчас найду! У Маркса всё есть!» – Не находя, злился, а Марта усмехалась. «Да ведь есть ещё другие противоречия – между обществом и природой!» – выкручивался он, листая страницы. – «Да я вот завтра пойду в библиотеку дома офицеров – там полное собрание сочинений!» Марта хихикала: «Ищи, только на девушек других не заглядывайся!» На это Климов только возмущённо тряс головой.
В доме Марта говорила исключительно на эстонском, и он удивительно быстро и с охотой освоил этот певучий, плывущий язык, но при Шулегине, и, тем более, когда приезжала мама, Климов всегда говорил по-русски, а Марта демонстративно обращалась к мужу при них только по-эстонски – он отвечал по-русски, он спрашивал по-русски – она отвечала по эстонски. Шулегин лишь улыбался в усы – эстонский он знал, а вот Полину Ивановну это ужасно расстраивало – она вся каменела и поджимала губы.
Однажды Марта твёрдо заявила мужу:
– Мои дети будут эстонцами! И они будут свободными людьми!
Он только пожал плечами; он слышал, что, если женщина в положении, с ней спорить нельзя.
Через десять месяцев после свадьбы у них родился сын. Марта назвала его Артуром, и Володя не мог перечить, хотя в этом имени чудилось что-то совсем чужое. А вот Марта с детства зачитывалась книжками о рыцарях Круглого Стола. «Сэр Артур!» – так называла она его про себя, когда ещё носила, и так обращалась к нему в своих мысленных разговорах с ним, когда чувствовала шевеление в животе. Почему-то она была на сто процентов уверена, что родится мальчик.
Мальчик был живой, беленький. Марта несколько месяцев после родов гордо сияла. Однако на четвёртом месяце врачи стали отмечать странности у ребёнка – он не фиксировал взгляд на игрушках, предметах и людях, реагируя только на звуки. Приговор врачей был страшен: врождённая слепота.
У Марты сразу исчезло молоко, и пришлось перейти на детские смеси. Марта на какое-то время будто окаменела, окаменел и он. А жизнь текла по накатанному руслу изо дня в день, с кормлениями, сменой пелёнок, стирками, пением Марты над младенцем, будто ничего и не произошло. А ребёнок улыбался, смеялся на ласковые звуки речи, счастливый в своём неведении.
И Марта, и Володя молчали, но несли в себе ежеминутно: «Это нам божье наказанье!» За что? – думать дальше не хотелось. Зато все окружающие – родители Марты, Полина Ивановна, соседи – знали прекрасно: нельзя, нельзя было вам таким разным соединяться. И от этого было ещё отвратительнее – от этой примитивной их правоты! Молодые сердца не хотели смиряться с таким приговором, не могли…
Однажды Марта так и сказала Владимиру с грустной усмешкой, их словами: «Это нам Божье наказанье!»
«Какое Божье наказание, Бога нет!» – хотелось выкрикнуть ему, но он сдержался, ибо начал колебаться в своём атеизме – так всегда бывает, когда человека постигает великое горе: он пытается найти Высшее.
– Марта! – говорил он. – Я сделаю всё, что смогу, я найду докторов, я никогда вас не оставлю.
Она холодно посмотрела на мужа.
– Я его никогда не оставлю! – она положила руку на голову ребёнку, и тот заулыбался во сне. – А тебе я даю полную свободу…
– А я её не возьму! – сжал зубы Климов. – Марта, прости меня за то, что я тебе встретился, – вырвалось у него глухое.
– То же самое я могла бы сказать тебе, но не скажу… Потому что во всём этом есть какой-то смысл, понять который мы, люди, просто не можем! Ты ни при чём, мой милый, – она погладила его по щеке, – главное – мы люди. Это главное.
– Да, мы люди, – кивнул он, пожимая ей руку. – Мы им всем докажем! И самому Господу Богу, если он есть! Докажем!
Туман скрадывал шаги. Где-то в подвале, ниже уровня мостовой, сиял свет, и сквозь решётку была видна часть чужого жилища: широкий стол, какие-то чертежи и линейки, циркуль и отсвечивающая уютным светом лампы лысина в серебристом венчике.
«Наверное, у него всё в порядке – здоровые дети, внуки… – подумалось Климову, и тут же пресёк себя: – А тебе откуда известно? У каждого своя печаль, особенно у жизнь прожившего – возможно, сын и здоровый, да пьяница или под арестом… Кто знает?»
С тех пор как он стал ощущать противоречивую сложность жизни, разрушающую теории, схемы, традиции, сотрясающую, казалось, незыблемые убеждения, всё большее отдохновение и цельность душевную находил в работе, на корабле – там было всё объяснимо. А если и попадались сложные технические задачи, то конкретные, решаемые… Вот корабельный дизель, турбины, винты – здесь было всё чётко, логично. Была неисправность – он находил её, и это было как маленькая победа.
Вот и сейчас он стал думать о том, что завтра надо будет в последний раз проверить систему охлаждения двигателя – насосы, кингстоны, и сразу успокоился.
Полина Ивановна
Когда Полина Ивановна впервые приехала в Таллин к сыну-моряку, её поразила сохранность и порядок в городе по сравнению с раскорёженным войной и до сих пор только приходящим в себя Псковом. В ближайшем магазине её потрясло наличие продуктов, о которых в России подчас могли только мечтать: лежали на прилавках сыры, яйца, сливочное масло, колбаса, тушёнка, конфеты, и молоко! – в общем, всё то, что в каких-нибудь ста километрах отсюда, в полуголодном Пскове можно было «достать» с трудом превеликим, отстояв после работы огромные очереди по отдельности, в разных магазинах разных районов города. А здесь и очередь совсем небольшая – человек десять-двенадцать! А ещё Марта говорила, что «стало хуже», мол, раньше и очередей не было вовсе, – вот в эту байку Полина Ивановна сразу и навсегда не поверила! А живший здесь ещё до войны старик Шулегин, которому она больше доверяла как русскому, проворчал, что, дескать, «ассортимента» не стало. Это слово Полина Ивановна услышала впервые, но спрашивать постеснялась (у Вовки узнаю, решила). «Жируют, жируют… – подумала она горестно-ревниво, – видать, война мимо них совсем прошла!»
– Кто крайний? – спросила она у очереди.
Никто ей не ответил, хотя вся очередь вдруг обернулась к ней: лица холодные, отчуждённые, с тяжеловатыми, как у Марты, скулами… Кто-то что-то сказал на непонятном языке, какой-то голос ответил, но не ей. Однако она почувствовала, что сказанное касалось её, сделалось неуютно. Но была она неробкого десятка: «Ну и пусть лопочут по своему!» – подумала и, сжав губы, решительно встала в самый край очереди за пожилой высоченной эстонкой.
Очередь двигалась довольно быстро и спокойно, продавщица (таких ещё Полина Ивановна не видела!) – чистенькая миловидная девушка, в синем элегантном халатике с «крылышками» и в белом с рюшами чепчике, приятно улыбалась, в отличие от российских торговок в вечно засаленных халатах, для которых облаять покупателя было неписаным правилом. Здесь же покупатели негромко спрашивали, ангелоподобная продавщица, мило улыбаясь, спокойно отвечала, взвешивала и заворачивала товар в вощёную бумагу и рассчитывалась… «Культура!» – с некоторой завистью подумала Полина Ивановна. Когда она подошла к весам, за ней уже стояло человек шесть-семь.
– Так, дочка, – деловито сказала Полина Ивановна строго благовидной беленькой продавщице в рюшечках, – сыру полкило, масла сливочного двести грамм, колбаски грамм триста… Во сколько обойдётся?
Девушка на миг окаменела от слова «дочка», однако тут же взяла себя в руки и, не двигаясь, смотрела Полине Ивановне прямо в глаза и мило улыбалась.
Полина Ивановна повторила заказ, но девушка так же не двинулась, продолжая мило улыбаться.
– Ma ei saa aru, – cказала она наконец, – я не понимаю русски…
– Как не понимаешь? – удивилась Полина Ивановна и закипятилась, – да что тут понимать-то – вон сыру, сыру отрежь, взвесь кусок, – она указала на жёлтую голову сыра на витрине под стеклом и на медово-жёлтый куб сливочного масла, уже сильно урезанный.
Девушка с готовностью закивала, куда-то наклонилась, и скоро на прилавке перед Полиной Ивановной возникли пять коробок спичек и пачка соли.
– Ei saa aru. – улыбалась девушка.
За спиной Полины Ивановны послышался смешок. Краснолицый мужик с водянистыми глазами смотрел на неё с высоты своего роста и ухмылялся.
– Ах, вот вы как! – поняла всё Полина Ивановна и горькая злость подступила к горлу, – а мы вас ещё освобождали! Ну дай Бог вам по делам вашим! – она схватила пустую авоську с прилавка и бросилась к выходу, чтобы не разреветься на глазах у этих… которым она и слова сразу подходящего найти не могла, но у самых дверей развернулась и бросила всей очереди гневно самое для неё страшное, что только мог сказать русский человек живому человеку, хуже самой многоэтажной матерщины:
– Вы – не люди! Вы – ФАШИСТЫ!
– Мы – люди! – вдруг донеслось из очереди, но она уже не слышала, хлопнула дверью и лишь на улице дала волю слезам, которые уже никто не мог увидеть, к тому же моросил мелкий тёплый дождь.
Она шла домой, сжимая пустую авоську, заклиная шёпотом: «Фашисты… фашисты… фашисты!»
А тем временем в магазине после её ухода возникла дискуссия – на эстонском языке, естественно. Тот, который стоял в самом конце очереди – высокий пожилой человек с длинным черепом и вдавленными висками, был пастор Каллас из Святодуховской церкви, хорошо известный в Таллине. Стоял он в конце, потому что все знали: непременно откажется, если кто-либо попытается пропустить его вперёд.
– Милая девушка! – покачал головой пастор. – И зачем вы так нехорошо поступили с этой пожилой женщиной?
– А за что они всю мою семью, отца, мать и братьев в Сибирь сослали? Только за то, что мы отказались идти в их колхоз! – глаза девушки не улыбались, а светились холодной ненавистью.
– Да, но причём тут эта женщина? Она может просто многого не понимать и не знать…
– Да все русские хороши, – послышалось из очереди, – зачем едут и едут сюда?
– Но вы же не знаете её обстоятельств, – возражал Каллас. – Может, и не по своей воле она здесь!
А очередь продолжала разными голосами:
– Да кушать сюда едут, голод у них, вот и едут вместо того, чтобы у себя работать!
– Лентяи и пьяницы! – выкрикнул женский голос.
– Тише, вас арестуют!
– Но ведь эта старая женщина не виновна! – продолжал качать головой Каллас.
– Фашисты, – хмыкнул краснолицый детина, – да при немцах лучше было! И правы немцы: они низшая раса, они даже ложку из чашки не вытаскивают, когда чай пьют! Русские, евреи и негры – одно!
– Тише, вас арестуют!
– А у меня сына посадили ни за что! Пусть теперь и меня сажают!
– Тише, нас всех арестуют!
– Эстонцы, эстонцы, – качал головой Каллас, – ведь вы в церковь ходите!
– А вы слишком добры, уважаемый пастор, – сказал краснолицый, – вы к небесам ближе, чем к Эстонии, вы всех жалеете – это ваша работа…
А Полина Ивановна тем временем шла по улице, глотая слёзы обиды и сжимая пустую авоську в кулачке, и самое горькое в её мыслях было: «Сын мой, сын, Вовочка милый, как же угораздило тебя с вражьим племенем породниться, они ж твоего тятьку топили! Это они! – те, что в очереди стояли… – И воображение дорисовывало к суровым скуластым лицам высокие немецкие рогатые каски. – И Марта твоя волчицей смотрит… Уйду, уйду от тебя к чужим людям русским, как только Артурчика несчастного чуть помогу поднять… перетерплю… жена, конечно, важнее матери!.. Это для неё, для Марты, значит, я тебя поднимала, растила, надрывалась, ночи не спала, сердце тряслось, когда ты болел… Господи! Уйду к чужим русским людям, няней наймусь, пусть стыдно будет ему, офицеру… – с мстительной горечью думала она, – но не уеду совсем, не смогу, ближе тебя ведь никого у меня не осталось… буду рядом, буду навещать! Буду… Милый…»
Она шла, глотая слёзы и сжимая сетку в кулачке, как вдруг из тумана появились две чёрные страшные фигуры. Пуговицы на сюртуках блестели, на плечах были метлы и щётки, лица чумазые…
– Тэрэ! – закричали они весело хором, заставив вздрогнуть женщину. Это были знаменитые на весь Таллин трубочисты-весельчаки – Яан и Петер. Яан был маленький, толстенький, Петер – высокий, длинный.
Полина Ивановна отшатнулась: ей показалось, что она увидела чертей во плоти, что было совсем неудивительно в этом чужом городе:
– Свят! Свят! Свят! Боже милостивый! Сгинь бесово отродье, – перекрестила она их по-православному, а они, смеясь, радуясь предстоящей кружке пива после нелёгкой работе лазанья по старой ветхой черепице крыш и прочистке дымоходов, исчезли в тумане.
– Как ты думаешь, Петер, вкусное сегодня будет пиво у Тоомаса?
– Очень вкусное, судя по тому, как нас благословила эта добрая русская женщина! – ответил Яан, и они расхохотались, а Яан пальцами изобразил у себя на голове рога и, присев на корточки, просеменил так пару метров.
Она шла, еле разбирая дорогу, глотая слёзы обиды, сжимая пустую авоську. «Ну вот, Марта, – говорила она сама с собой, – вот твои йестонцы!». За что, за что это ей? За то, что немцы убили мужа, Володю старшего, за голод, за работу в эвакогоспитале, самую тяжкую и грязную, а после этого поиски пропитания к скудному пайку для нездорового, растущего Володи? А бессонные ночи с его простудами, после которых шла на дежурство, оставив больного сына на нерадивую соседку? И сердце материнское разрывалось… И всё, чтобы отдать ИМ? Седеющие волосы шевелились у неё на голове, страшась произнести страшное ненавистное слово на НИХ, на Марту…
Дверь открыла Марта и, не спрашивая, всё поняла.
– Вот, Марта, твои… – бросила на стол пустую скомканную сетку и смятые деньги Полина Ивановна. – Накормили!
Полина Ивановна, не глядя на Марту, сняла и повесила плащ, сунув ноги в домашние тапочки, прошла к ребёнку. Марта же, поджав губы, надела боты, плащ, взяла брошенную на стол сетку и, ни слова не говоря, хлопнула дверью.
Полина Ивановна подошла к детской кроватке. Белокурый ребёнок лежал, широко раскрыв глаза. Полина Ивановна повела рукою у него перед лицом, которое тут же сморщилось, будто ребёнок хотел заплакать, но вместо этого только чихнул.
«Да видит он! Видит, видит! – ударило в голову Полине Ивановне. – Что они мелют про слепоту-то!» Она ещё раз провела перед лицом ребёнка ладонью, однако он никак не среагировал: лицо и ясные глаза оставались неподвижными. Она потрясла яркими погремушками, и ребёнок, заулыбавшись, вытянул вверх пухлые в тесёмках ручки, залепетал что-то неопределённое, доброе, ласковое. Погладила его.
Ребёнок закрыл глаза и тихо засопел. Он был сыт – пустые бутылочки из-под жиденькой манной каши стояли у кроватки.
Полина Ивановна вздохнула, на переносице обозначилась морщина, горькие складки в углах рта стали резче. Она тихо отошла от ребёнка в другую комнату, где ей был выделен диванчик, достала из кожаной сумочки старую потемневшую иконку Божией матери с Младенцем, поставила на тумбочку в изголовье дивана, по привычке опасливо оглянулась, опустилась на колени и начала молиться: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится Имя Твоё, да будет воля Твоя на Земле, как и на Небе…
Профессор Шулегин
Приятно было после промозглой уличной сырости и сумрака сидеть в ставшей общей кухне, потягивать чай, слушая, как гудит в плите голубое пламя горящих торфяных брикетов.
Дмитрий Николаевич и Володя, в домашних пижамах, сидели, как это уже не раз бывало, за столиком, покрытым клеёнкой с полустёртыми цветочками, и тихо беседовали. Только на этот раз беседа почему-то вышла за относительно безопасные пределы седой русской старины и коснулась тем опасных, и они невольно понизили голоса. С потолка светила свисающая на проводе зоркая лампа.
Володе вдруг захотелось доказать свою правоту этому старому, отставшему от времени человеку, ведь он, советский морской офицер, как никак, уже кандидат в члены партии и ни сегодня-завтра будет носить в кармане величайшую драгоценность – партбилет!
– Да, – сказал, наконец, Володя, – теперь я многое понял, Дмитрий Николаевич! Только вам могу это сказать… Сталин, Сталин всему виной! Он исказил линию партии! Эх, если бы Ленин был жив! Всё было бы по-другому, я вас уверяю!
– Милый мой, наивный молодой человек! – потупился Дмитрий Николаевич, помешивая ложечку в чашке. – Да знаете ли вы, что всё это с Ленина и началось? И лагеря (первый он на Соловках открыл), и бессудные расстрелы тысяч невинных людей лишь за то, что на ком-то был каракулевый воротник, а кто-то носил очки… По этим признакам классовых врагов вычисляли, да ещё по тому, у кого ногти на руках были чистые и стриженые! Великий Хам стал задавать тон всему, и в манере поведения и в одежде! И эту распущенность наш бедный народ перепутал со свободой!
– Ну вы даёте! – ахнул Климов и тут же рассмеялся. – Ну вот в это я никогда не поверю! Ленин и лагеря? – Клевета! Да Ленин был чистейшим человеком, только добра желавшим всем народам! Детей как любил! Лунную сонату! Кстати, а помните первые его декреты? О мире и о земле, о том, что для рабочего человека, для крестьянина, для уставшего от войны солдата, было главным! Скажете, разве не было?
– И дал он России этот мир? – взглянул на Володю Дмитрий Николаевич осторожно. – Германская война закончилась для Европы в 1918 году, а Россия кровью захлёбывалась ещё четыре года! И это его ленинский мир?
– Он не знал, что так повернётся, – ляпнул Володя, невольно чувствуя, как краснеют уши, но не находя нужных слов, знаний. – Да в вас всё, извините, личные обиды говорят!
– Ой ли, – тихо рассмеялся Шулегин, – а помните тот фильм «Человек с ружьём», где солдату, приехавшему с фронта, Ленин говорит: «А винтовочку-то не бросайте, она вам против буржуев ещё пригодится!» И лозунг ведь был: «Превратим войну империалистическую в гражданскую!»
– Ну и правильно, – обрадовался Владимир. – Умно подстраховался! А этим буржуям надо было не рыпаться, а мирно отдать власть народу…
– Народу ли? – тихо рассмеялся Шулегин. – Да не народу, а партии большевиков!
– Так ведь она народ и представляла! – обрадовался Климов, чувствуя, что неожиданно для себя выигрывает спор.
– Молодой человек, вот вы говорите: большевики народ представляли, а вы хоть слышали, что такое Учредительное собрание?
– Ну, что-то слышал, буржуи собрались и говорильню устроили, чтобы внимание отвлечь…
– Да не буржуи, а все сословия населения России были в нём представлены, все нации, вся Россия, со всех уездов – и крестьяне, и рабочие, и служащие, и священники, и дворянство – весь русский народ должен был проголосовать за новое правительство! В случае успеха это было бы величайшим событием за всю историю России. Любой другой путь вёл к гражданской войне…
– Ну и что?
– А то, что и большевики там были, и представились на голосование.
– Ну и что? – тупо повторил Володя, уже предчувствуя очередную ловушку.
– А то, что прокатили ваших большевиков – вот тогда им и понадобились винтовочки!
На кухню вошла недовольная Полина Ивановна.
– Вы чего тут расшумелись? Николаич, спать бы шёл, и ты Вовка чего расселся?
– Ой, насплюсь скоро на том свете, Полина Ивановна! А с Володей так поговорить приятно старику!
– Типун тебе на язык, Николаич, про тот свет, – недовольно буркнула Полина Ивановна, открыла заслонку в печке, стала ворошить кочергой и подкинула брикет.
Зашла Марта с бутылочкой манной каши и поставила на плиту разогреваться. Через минуту сняла и так же молча вышла.
– Что случилось, мама? Что с ней?
– А то, что снова сегодня приходил к ней этот ваш похабник и балабол.
– Виктор Павлович, замполит? – помрачнел Володя, вспомнив круглую, плутоватую и красную от неумеренной выпивки физиономию.
Виктор Павлович Полубаков был политрук флотского коллектива эсминца «Быстрый», да к тому же ещё капитан второго ранга. С капитаном Криницким у них были отношения натянутые. Как кадровый моряк, Криницкий внутренне презирал этого «капитана», бывшего интенданта, моря не нюхавшего, однако держался с ним подчёркнуто корректно. И, хотя весь экипаж был на стороне капитана, замполита побаивались, потому что знали – стукач по должности и по призванию, к тому же дурак, а дурак, и к тому же подлый, может любому навредить. Пытались его с корабля под разными предлогами убрать – но не получалось, ибо, как говорили, был он рекомендован свыше. Последнее время замполит зачастил к Климовым в гости, причём дважды уже приходил в отсутствие Климова, явно выпивший, под видом проверки условий быта подчинённых. Марта его тихо ненавидела – она сразу звала Шулегина, который оттаскивал Полубакова «на чай» на кухню, где замполит агитировал старого профессора отдать пенсию на облигации государственного займа. Шулегин и так нищенствовал, но вынужден был на половину пенсии покупать ничего не стоящие и не сулящие ему облигации. Полубаков же хвастал, что свою зарплату тратит на облигации, хотя было известно, да его круглая морда о голоде не напоминала, что был он на казёных харчах, а вот где деньги на водку находил, оставалось для всех тайной за семью печатями.