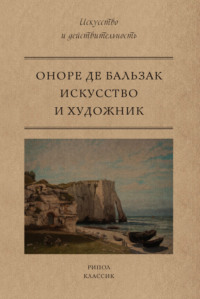Полная версия
Утраченные иллюзии
При таких-то обстоятельствах, именно в то время, когда почти уже все необходимое для будущего хозяйства было налицо и Давид отправился в Марсак приглашать отца на свадьбу в надежде, что старик, очарованный невесткой, примет на себя часть огромных расходов, связанных с перестройкой дома, произошло одно из тех событий, которые в провинциальных городках совершенно изменяют положение вещей.
Люсьен и Луиза имели в лице Шатле домашнего соглядатая, и он с настойчивостью, порожденной ненавистью, к которой примешивалась страсть, равно как и жадность, искал случая вызвать скандал. Сикст желал довести г-жу де Баржетон до столь явного выражения чувств к Люсьену, чтобы ее сочли погибшей. Он выказывал себя покорным наперсником г-жи де Баржетон; но если он восхищался Люсьеном в улице Минаж, то в других домах всячески поносил его. Он незаметно завоевал себе право бывать запросто у Наис, которая уже нисколько не остерегалась своего прежнего обожателя; но он был чересчур преувеличенного мнения о наших любовниках: к великому огорчению Луизы и Люсьена, любовь их по-прежнему оставалась платонической. В самом деле, есть страсти, которые затягиваются в своем развитии, и как знать – худо это или хорошо? Влюбленные пускаются в маневрирование чувствами, рассуждают, а не действуют, сражаются в открытом поле, а не идут на приступ. Они пресыщаются, растрачивая попусту свою страсть. Влюбленные в таких случаях слишком много размышляют, слишком взвешивают свои чувства. Часто страсти, выступившие в поход с развернутыми знаменами, в полном параде, пылая желанием все сокрушить, кончают тем, что уходят в себя, не одержав победы, посрамленные, обезоруженные, обескураженные напрасной шумихой. Такой роковой исход порою объясняется робостью молодости и желанием отсрочить развязку, столь приманчивым для неопытных в любви женщин, ибо ни отъявленные фаты, изощренные в искусстве волокитства, ни записные кокетки, искушенные в любовной науке, не пойдут на такой взаимный обман.
Притом провинциальная жизнь удивительно не благоприятствует любовным утехам и, напротив, располагает к рассудочным спорам о страсти; а препятствия, которые она ставит нежным отношениям, связующим влюбленных, побуждают пылкие души к крайностям. Провинциальная жизнь зиждется на таком придирчивом соглядатайстве, на такой откровенности внутреннего уклада, так не допускает она ни малейшей добродетели, так безрассудно опорочиваются там самые чистые чувства, что дурная слава многих женщин ими вовсе не заслужена. И многие из них сожалеют, что напрасно не вкусили они от всех радостей греха, если им приходится нести на себе все его печальные последствия. Общество, которое легкомысленно клеймит или порицает явные проступки, коими кончается длительная тайная борьба, пожалуй, само больше всего повинно в том, что разыгрываются скандальные истории; но большинство людей, злословящих по поводу якобы позорного поведения некоторых женщин, без вины виноватых, никогда не задумывалось о причинах, побудивших их бросить вызов обществу. Г-жа де Баржетон должна была оказаться в том нелепом положении, в котором оказывались многие женщины, чье падение совершилось уже после того, как они были несправедливо обвинены.
При зарождении страсти препятствия пугают неопытных людей; препятствия же, стоявшие на пути наших влюбленных, напоминали нити, которыми лилипуты опутали Гулливера. То были бесчисленные пустяки, они сковывали всякое движение и убивали всякое пылкое желание. Так, г-жа де Баржетон постоянно была на виду у всех. Если бы она вздумала запереть двери для гостей в те часы, когда у нее бывал Люсьен, этим все было бы сказано; пожалуй, проще было бы сбежать с ним. Правда, она принимала его в будуаре, с которым он так свыкся, что чувствовал себя там хозяином; но двери будуара умышленно держали открытыми. Все происходило самым добродетельным образом. Г-н де Баржетон, точно майский жук, кружил по комнатам, не думая, что его жене хочется побыть с Люсьеном наедине. Не будь иных помех, помимо него, Наис легко могла бы избавиться от присутствия мужа, дав ему какое-нибудь поручение вне дома или же заняв его какой-нибудь хозяйственной работой; но ее одолевали гости, а они становились все назойливее, по мере того как возрастало любопытство. Провинциалы по своей природе люди вздорные, им любо досадить зарождающейся страсти. Слуги сновали взад и вперед по дому, входили без зова и не постучав в дверь в силу старинных привычек, раньше совсем не досаждавших женщине, у которой не было причины скрывать что-либо. Изменить домашний уклад – не значило ли признаться в любви, в которой Ангулем еще сомневался? Г-жа де Баржетон шагу не могла ступить из дому, чтобы весь город не знал, куда она отправилась. Прогулка вне города вдвоем с Люсьеном была бы отчаянным поступком: предпочтительнее было бы запереться с ним дома. Если бы Люсьен засиделся у г-жи де Баржетон за полночь, когда гости уже разошлись, утром поднялись бы толки. Итак, и дома, и вне дома г-жа де Баржетон всегда была на людях. Эти подробности рисуют провинцию: там грех неверности либо признан, либо невозможен.
Луиза, как все увлеченные страстью неопытные женщины, мало-помалу начинала сознавать трудности своего положения; она страшилась их. Страх оказывал влияние на те любовные споры, на какие растрачиваются лучшие часы, когда влюбленные остаются одни. У г-жи де Баржетон не было поместья, куда она могла бы увезти своего милого поэта, как это делают иные женщины, которые, придумав удачный предлог, погребают себя в деревенской глуши. Утомленная жизнью на людях, доведенная до крайности этой тиранией, иго которой было тем тяжелее, что мешало радостям любовных утех, она вспомнила об Эскарба и теперь мечтала увидеться со стариком-отцом: так раздражали ее все эти жалкие препятствия.
Шатле не верил в такую невинность. Он выслеживал, в какие именно часы Люсьен приходил к г-же де Баржетон, являлся вслед за ним, неизменно сопутствуемый г-ном де Шандуром, человеком, во всей этой компании самым невоздержанным на язык, и его-то он всегда пропускал вперед, надеясь застать любовников врасплох; он упорно подстерегал случай. Его роль и успех его замысла представляли особую трудность, ибо ему требовалось выказывать полное безразличие, раз он желал управлять актерами этой драмы, которую ему вздумалось разыграть. Итак, окружая Люсьена лестью, пытаясь усыпить его внимание и обмануть г-жу де Баржетон, не лишенную проницательности, он для виду стал волочиться за завистливой Амели. Чтобы легче было шпионить за Луизой и Люсьеном, он уже несколько дней вел с г-ном Шандуром оживленный диспут по поводу влюбленной пары. Дю Шатле уверял, что г-жа де Баржетон смеется над Люсьеном, что она чересчур горда, чересчур знатна, чтобы снизойти до сына аптекаря. Преувеличивать свое недоверие к сплетням входило в начертанный им план действий, ибо он желал прослыть защитником г-жи де Баржетон. Станислав же утверждал, что Люсьена отнюдь нельзя причислить к неудачливым любовникам. Амели подзадоривала спорящих, желая узнать истину. Всякий выражал свое мнение. Как водится в провинциальных городках, нередко кто-нибудь из близких друзей Шандуров, случайно заглянув к ним, попадал в самый разгар спора, в пылу которого дю Шатле и Станислав наперебой подкрепляли свои мнения удивительными доводами. И как было противникам не заручиться сторонником, не спросить соседа: «А как ваше мнение?» Столь философские споры способствовали тому, что г-жа де Баржетон и Люсьен постоянно были в центре внимания. Наконец дю Шатле высказал однажды такое соображение: помилуйте, столько раз приходили они с г-ном де Шандуром к г-же де Баржетон в то время, как там был Люсьен, и никогда не замечали в их отношениях ничего предосудительного – дверь в будуар была отворена, слуги входили и выходили, ничто не обличало прелестных любовных преступлений и т. д. Станислав, которому нельзя было отказать в известной дозе глупости, решил завтра же войти в будуар г-жи де Баржетон на цыпочках, на что коварная Амели всячески его подстрекала.
Это «завтра» оказалось для Люсьена одним из тех дней, когда молодые люди рвут на себе волосы и клянутся более не выполнять глупой роли вздыхателя. Он освоился со своим положением. Поэт, когда-то робко садившийся на кончик стула в священном будуаре ангулемской королевы, преобразился в требовательного любовника. Шести месяцев было достаточно, чтобы он возомнил себя равным Луизе и пожелал быть ее господином. Он вышел из дому с непреклонным решением пойти на безрассудство, поставить жизнь на карту, воспользоваться всеми доводами пламенного красноречия, сказать, что он потерял голову, не способен думать, не способен написать ни строчки. Иные женщины испытывают отвращение к предумышленной решимости, что делает честь их щепетильности; они охотно уступают увлечению, но не требованиям. Вообще нет любителей навязанного удовольствия. Г-жа де Баржетон заметила в выражении лица Люсьена, в его глазах, в манерах ту взволнованность, которая обличает заранее обдуманное решение: она сочла необходимым расстроить его замысел, отчасти из духа противоречия, отчасти из возвышенного понимания любви. Как женщина, любящая все преувеличивать, она преувеличивала и значение своей особы. Ведь в своих глазах г-жа де Баржетон была владычицей, Беатриче, Лаурой. Она воображала себя восседающей, как в Средние века, под балдахином на литературном турнире, и Люсьен должен был завоевать ее, одержав немало побед; ему полагалось затмить «вдохновенного ребенка», Ламартина, Вальтера Скотта, Байрона. Существо возвышенное, она смотрела на свою любовь как на облагораживающее начало: желания, которые она внушала Люсьену, должны были пробудить в нем жажду славы. Это женское донкихотство проистекает из чувства, освящающего любовь, оно достойно уважения, ибо обращает ее на пользу человеку, облагораживает, возвышает. Положив играть роль Дульцинеи в жизни Люсьена не менее семи или восьми лет, г-жа де Баржетон желала, подобно многим провинциалкам, заставить своего возлюбленного своеобразным закабалением, длительным постоянством как бы выкупить ее особу, – короче, она желала подвергнуть своего друга искусу.
Когда Люсьен начал сражение одной из тех нервических вспышек, что забавляют женщин, достаточно владеющих собою, и огорчают только любящих, Луиза приняла исполненную достоинства позу и повела длинную речь, уснащенную высокопарными словами.
– Где же ваши обещания, Люсьен? – сказала она наконец. – Избавьте же столь сладостное настоящее от упреков совести, ведь позже они отравят мне жизнь. Не портите будущего! И, говорю с гордостью, не портите настоящего! Ужели мое сердце не принадлежит вам вполне? Чего же вы еще желаете? Неужто ваша любовь уступает влиянию чувственности? Но не в том ли преимущество любимой женщины, чтобы вынудить чувственность умолкнуть? За кого вы меня принимаете? Ужели я более не ваша Беатриче? И разве я для вас не больше чем просто женщина? А ежели не так, стало быть, я нечто меньшее…
– Вы то же самое сказали бы человеку, которого не любите! – в ярости вскричал Люсьен.
– Если вы в моих словах не чувствуете истинной любви, вы никогда не будете достойны меня.
– Вы начинаете сомневаться в моей любви, желая избавить себя от труда отвечать на нее, – сказал Люсьен, в слезах бросаясь к ее ногам.
Бедный мальчик плакал всерьез: он видел, что еще долго придется ему стоять у врат рая. То были слезы поэта, уязвленного в своем могуществе, слезы ребенка, обиженного отказом в желанной игрушке.
– Вы никогда меня не любили! – вскричал он.
– Вы сами не верите тому, что говорите, – отвечала она, польщенная его бурным чувством.
– Так докажите, что вы моя! – в неистовстве сказал он.
В эту минуту неслышно вошел Станислав, увидел Люсьена, почти распростертого у ног Луизы, приникшего головой к ее коленам, плачущего. Обрадованный столь недвусмысленной картиной, Станислав быстро отступил к дверям гостиной, где его поджидал дю Шатле. Г-жа де Баржетон тотчас же кинулась им вслед, но ей не удалось настигнуть шпионов, которые поспешно удалились, словно боясь помешать.
– Кто приходил ко мне? – спросила она у слуг.
– Господа де Шандур и дю Шатле, – отвечал ее старый лакей Жантиль.
Она воротилась в будуар бледная и взволнованная.
– Ежели они видели вас в таком положении, я погибла, – сказала она Люсьену.
– Тем лучше! – вскричал поэт.
Этот себялюбивый возглас страсти вызвал у нее улыбку. В провинции истории такого рода осложняются по мере их пересказа. В одну минуту всем стало известно, что Люсьена застали у ног Наис. Г-н де Шандур, обрадованный случаем выставиться напоказ, прежде всего помчался в клуб и там оповестил о великом событии, затем обегал все знакомые дома. Дю Шатле не преминул предуведомить всех, что он, мол, лично ничего не видел; но, сам оставаясь в стороне, он подстрекал Станислава, понуждал его повторять без устали свой рассказ; и Станислав, почитая себя великим остроумцем, приукрашал повествование все новыми и новыми выдумками. Вечером все общество хлынуло к Амели, ибо к вечеру в дворянском Ангулеме уже ходили самые невероятные слухи, и всякий рассказчик стремился в сочинительстве перещеголять самого Станислава. И женщины и мужчины жаждали знать истину. Строя самую невинную мину, громче всех кричали о скандальной истории, о развращенности нравов Амели, Зефирина, Фифина, Лолотта, именно те женщины, которые сами были более или менее повинны в запретном счастье. Жестокая тема разнообразилась на все лады.
– Вы слышали интересные новости? – говорила одна. – Бедняжка Наис! Но я этому не верю! За кем другим, а за ней подобных скандальных историй никогда еще не водилось. Помилуйте, она чересчур горда, чтобы унизиться до какого-то Шардона. Она могла ему покровительствовать, но не более. А ежели это не так… Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашла в кого влюбиться! Мне жаль ее от всей души.
– Она тем более заслуживает жалости, что поставила себя в уморительно смешное положение: она годится в матери этому Люлю, как называет его Жак. Каково вам это покажется? Повесе едва ли двадцать лет, а Наис, между нами будь сказано, все сорок.
– Но позвольте, – сказал Шатле, – я думаю, что положение, в котором находился господин де Рюбампре, уже само по себе свидетельствует о невинности Наис. Неужто на коленях вымаливают то, что уже даровано?
– Как вам сказать! – вставил Франсис, состроив игривую мину, и тем заслужил укоризненный взгляд г-жи де Сенонш.
– Но расскажите же толком, как было дело? – спрашивали у Станислава, обступив его тесным кольцом в углу гостиной.
Станислав сочинил наконец целую историю, полную непристойностей; притом он сопровождал свой рассказ такими жестами, принимал такие позы, что очевидность преступления становилась поразительно ясной.
– Непостижимо! – твердили вокруг.
– Фи! Среди белого дня! – говорила одна.
– Кого-кого, а Наис никогда бы я в этом не заподозрила.
– Что же с ней теперь станется?
Затем следовали бесконечные толкования, предположения!.. Дю Шатле защищал г-жу де Баржетон, но защищал так неловко, что только подливал масла в огонь. Лили, огорченная падением самого дивного ангела на ангулемском олимпе, вся в слезах отправилась в епископский дом, чтобы сообщить новость. Когда сплетня разошлась решительно по всему городу, довольный дю Шатле явился к г-же де Баржетон, где – увы! – играли в вист всего лишь за одним столом; он дипломатически попросил у Наис позволения поговорить с ней наедине в будуаре. Они сели на диванчик.
– Вы, конечно, знаете, – сказал дю Шатле шепотом, – о чем толкует весь Ангулем?
– Нет, – сказала она.
– А если так, – продолжал он, – я чересчур расположен к вам, чтобы оставить вас в неведении. Я должен дать вам возможность пресечь клевету, которую, видимо, распускает Амели, дерзнувшая возомнить себя вашей соперницей. Сегодня поутру я заходил к вам с этой обезьяной Станиславом; он опередил меня на несколько шагов и теперь утверждает, что, подойдя к этой двери, – сказал он, указывая на дверь будуара, – он будто бы увидел вас и господина де Рюбампре в таком положении, что не посмел войти; он отскочил в полной растерянности, не дав мне времени опомниться, увлек меня за собою, и только уже когда мы дошли до Болье, он объяснил мне причину своего бегства. Ежели бы я узнал это раньше, я не двинулся бы от вас ни на шаг и постарался бы осветить дело в вашу пользу; но воротиться обратно, раз я уже вышел, не повело бы ни к чему. Теперь же, видел ли что-нибудь Станислав или не видел, он должен оказаться неправым. Милая Наис, не дозволяйте этому глупцу играть вашей жизнью, вашей честью, вашей будущностью; немедленно заставьте его замолчать. Вам известно мое положение. Хотя я и нуждаюсь здесь в каждом человеке, я вполне предан вам. Располагайте жизнью, которая принадлежит вам. Хотя вы и отвергли мои чувства, мое сердце навеки ваше, и я готов при всяком случае доказать, как я вас люблю. Да, да! Я готов оберегать вас, как верный слуга, не надеясь на награду, единственно из удовольствия служить вам, хотя бы вы об этом не узнали. Сегодня я убеждал всех, что ничего не видел, хотя и стоял в дверях гостиной. Если вас спросят, каким образом до вас дошли сплетни на ваш счет, сошлитесь на меня. Я почту за честь быть вашим защитником; но, между нами будь сказано, только господин де Баржетон может потребовать удовлетворения от Станислава… Ежели этот молокосос Рюбампре и дозволил себе какое-нибудь безрассудство, нельзя же допустить, чтобы честь женщины зависела от поведения повесы, которому вздумалось пасть к ее ногам. Вот что я хотел сказать.
Наис поблагодарила дю Шатле наклонением головы и задумалась. Ей до отвращения наскучила провинциальная жизнь. При первых же словах дю Шатле ее взоры обратились к Парижу. Молчание г-жи де Баржетон поставило ее затейливого поклонника в неловкое положение.
– Располагайте мною, – сказал он, – прошу вас.
– Благодарю, – отвечала она.
– Как вы полагаете поступить?
– Подумаю.
Длительное молчание.
– Неужто вы так влюблены в этого мальчишку?
Высокомерная улыбка скользнула по ее лицу, и, скрестив руки, она вперила взгляд в занавеси на окнах будуара. Дю Шатле ушел, не разгадав сердца этой надменной женщины. Позже, когда ушли Люсьен и четверо верных старцев, которые, не смущаясь сомнительной сплетней, все же явились составить партию в карты, г-жа де Баржетон окликнула мужа, собиравшегося уже идти спать: он так и застыл с раскрытым ртом, не успев пожелать жене доброй ночи.
– Подите-ка сюда, мой друг, мне надобно поговорить с вами, – сказала она с некоторой торжественностью.
Господин де Баржетон последовал за женой в будуар.
– Послушайте, – сказала она, – возможно, я поступила опрометчиво, вложив в мои заботы о господине де Рюбампре в качестве его покровительницы излишнюю горячность, дурно понятую как здешними глупцами, так и им самим. Нынче утром Люсьен бросился к моим ногам, как раз на этом месте, и признался мне в любви! И в ту самую минуту, когда я поднимала с полу этого юнца, вошел Станислав. Пренебрегая обязанностями в отношении женщины, блюсти которые учтивость предписывает благородному человеку в любых обстоятельствах, он раструбил повсюду, что застал меня в щекотливом положении с этим мальчишкой, хотя я отнеслась к нему, как он того заслуживал. Но вообразите, что произойдет, когда гадкая сплетня коснется до слуха этого сорванца, виновного лишь в легкомыслии! Я уверена, он нанесет оскорбление Станиславу и станет с ним драться. Помилуйте, да ведь это было бы равносильно публичному признанию в любви! Мне нет нужды говорить вам, что ваша жена чиста; но вы сами понимаете, как пострадала бы и ваша и моя честь, вздумай только господин де Рюбампре выступить в мою защиту… Ступайте немедленно к Станиславу и самым серьезным образом потребуйте у него удовлетворения за те оскорбительные речи, что он вел обо мне; помните, что дело можно уладить лишь в том случае, ежели он откажется от своих слов публично, в присутствии многих почтенных свидетелей. Таким образом вы заслужите уважение всех порядочных людей, вы поступите как человек умный, как человек воспитанный и получите право на мое уважение. Я сейчас же пошлю Жантиля верхом в Эскарба, мой отец будет вашим секундантом; несмотря на свой возраст, он способен, я в том уверена, свернуть шею этому шуту, который чернит доброе имя женщины из рода Негрпелис. Выбор оружия предоставляется вам; деритесь на пистолетах, вы метко стреляете!
– Иду, – сказал г-н де Баржетон, взяв трость и шляпу.
– Отлично, мой друг, – сказала растроганная жена. – Вот таких мужчин я люблю. Вы настоящий дворянин.
И старец, счастливый и гордый, поцеловал ее в лоб, который она ему милостиво подставила для поцелуя. А женщина, питавшая к этому седовласому младенцу чувство, родственное материнскому, прослезилась, услышав, как затворились за ним ворота.
«Как он меня любит! – сказала она самой себе. – Бедняга привязан к жизни и, однако ж, готов безропотно погибнуть ради меня».
Господин де Баржетон не тревожился о том, что завтра ему придется стоять перед противником лицом к лицу, хладнокровно смотреть на дуло пистолета, направленное на него; нет, его смущало только одно обстоятельство, и от этого его бросало в дрожь, покамест он шел к г-ну де Шандуру. «Что я скажу? – думал он. – Наис следовало бы подсказать мне главную мысль!» И он ломал себе голову, сочиняя приличествующие случаю фразы, которые не были бы чересчур смешны.
Но люди, живущие, как жил г-н де Баржетон, в вынужденном молчании, на которое их обрекают скудоумие и узость кругозора, в решительные минуты жизни принимают особо внушительную осанку. Они говорят мало и глупостей, естественно, высказывают меньше, притом они столь долго обдумывают то, что собираются сказать, и по причине крайнего недоверия к себе столь тщательно подготавливают свои речи, что наконец изъясняются всем на удивление, – чудо из области тех чудес, которые развязали язык валаамовой ослице. И вот г-н де Баржетон повел себя как человек недюжинный. Он оправдал мнение тех, кто почитал его философом пифагорейской школы. Было одиннадцать часов вечера, когда он вошел в гостиную Станислава; там он застал большое общество. Он молча поклонился Амели и одарил каждого своей бессмысленной улыбкой, которая при настоящих обстоятельствах показалась глубоко иронической. Наступила мертвая тишина, как в природе перед грозой. Шатле, уже успевший воротиться, чрезвычайно выразительно поглядел прежде на г-на де Баржетона, потом на Станислава, которому оскорбленный муж с отменной учтивостью отдал поклон.
Дю Шатле понял, что за смысл таит в себе это посещение в такой поздний час, когда старик обычно лежал уже в постели: очевидно, немощную руку его направляла Наис; и так как отношения дю Шатле с Амели давали ему право вмешиваться в семейные дела, он встал, отвел г-на де Баржетона в сторону и сказал:
– Вы желаете говорить со Станиславом?
– Да, – отвечал добряк, обрадовавшись посреднику и надеясь, что тот примет на себя ведение переговоров.
– Так пожалуйте в комнату Амели, – отвечал управляющий сборами, довольный предстоящим поединком, по причине которого г-жа де Баржетон может остаться вдовой и в то же время ей нельзя будет выйти замуж за Люсьена, виновника дуэли. – Станислав, – сказал дю Шатле г-ну де Шандуру, – Баржетон, очевидно, пришел потребовать удовлетворения, ведь вы столько болтали насчет Наис. Ступайте в будуар вашей жены и ведите себя оба, как подобает дворянам. Не повышайте голоса, будьте отменно учтивы – короче, держите себя с чисто британским хладнокровием и не уроните своего достоинства.
Минутой позже Станислав и дю Шатле подошли к Баржетону.
– Сударь, – сказал оскорбленный муж, – вы утверждаете, что застали госпожу де Баржетон в весьма щекотливом положении с господином де Рюбампре?
– С господином Шардоном, – насмешливо вставил Станислав, не считавший Баржетона человеком решительным.
– Пусть так, – продолжал муж. – Ежели вы не откажетесь от своих слов в присутствии всего общества, которое собралось сейчас у вас, я попрошу вас озаботиться секундантом. Мой тесть, господин де Негрпелис, будет у вас в четыре часа утра. Итак, сделаем последние распоряжения, ибо дело можно уладить только при одном условии: я уже об этом сказал вам. По праву оскорбленной стороны выбор оружия за мной. Будем драться на пистолетах.
Всю дорогу г-н де Баржетон тщательно пережевывал свою речь, самую длинную за всю его жизнь; он произнес ее бесстрастно и чрезвычайно просто. Станислав побледнел и сказал самому себе: «А что же я, в сущности, видел?» Но у него не было иного выбора, как отказаться от своих слов перед всем городом в присутствии этого молчальника, который, по-видимому, вовсе не был расположен шутить, или принять вызов, несмотря на то что страх, отвратительный страх сжимал ему горло раскаленными клещами, и он предпочел опасность более отдаленную.
– Хорошо. До завтра, – сказал он г-ну де Баржетону, надеясь все же, что дело еще может уладиться.