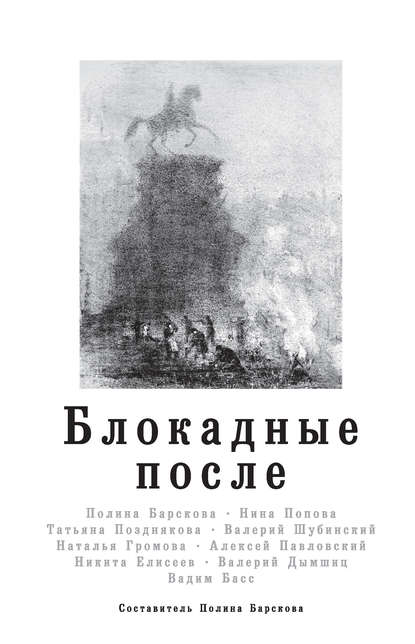Полная версия
«Спасская красавица». 14 лет агронома Кузнецова в ГУЛАГе

Сергей Прудовский
«Спасская красавица». 14 лет в ГУЛАГе агронома Кузнецова
Выражаем признательность за неоценимую помощь в подготовке текста Я. Рачинскому, председателю правления Международного Мемориала
Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти
© Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», текст
© И. Щербакова, предисловие
© Р. Романов, аннотация
© С. Прудовский, фото из семейного архива
© ООО «Издательство АСТ»
* * *Мемуары Степана Ивановича Кузнецова, которые публикуются в этой книге, взяты из обширного архивного собрания общества «Мемориал».
По жанру их можно было бы отнести к «типичным» лагерным воспоминаниям представителей новой советской интеллигенции 1930-х годов: инженеров, учителей, врачей и т. д., ставших жертвами массовых репрессий. Почему именно эти записки выбраны для публикации и чем интересны для сегодняшнего читателя?
Агроному Кузнецову, вернувшемуся в СССР из Харбина в 1935 году, после работы на КВЖД, невероятно повезло. Он имел все шансы разделить трагическую судьбу большинства КВЖДинцев, расстрелянных в годы Большого террора. Но «харбинская операция» настигла его только в 1941 году, «рикошетом», – и, пройдя через тяжелейшее следствие, побывав на Лубянке, в Лефортово, в пыточной Сухановке, приговоренный к 15 годам лагерей, он чудесным образом все-таки остался жив.
Эти воспоминания написаны искренним и честным человеком. При их чтении может показаться, что автор порой даже слишком простодушен и наивен, лишен рефлексии, но именно это делает его рассказ достоверным, без лакун, умолчаний и вытеснений, присущих многим лагерным мемуарам. Поэтому ему удается описать то, о чем рассказать очень трудно, – пытки и унижения, которым он подвергался во время следствия. И выжить ему удается не за чей-то счет, а благодаря поразительной для его возраста (ему уже во время ареста за 50, и выходит он на свободу лишь через 14 лет) работоспособности, умелости, ясной голове и дружелюбию.
Заметки Степана Кузнецова не просто достоверны, они наполнены реалиями лагерной жизни, которые не вызывают ощущения перегруженности фактами или именами. Читать их увлекательно – это лагерная робинзонада человека, старающегося выкарабкаться из обстоятельств, которые неминуемо должны были бы обречь его на смерть от голода и непосильного труда. Один из секретов того, почему ему удалось выжить, – отношение к труду как к вечной ценности. Недаром он так болеет за урожай капусты, посаженный заключенными-инвалидами в безводной степи, так гордится выведенным в Спасске в тяжелейших условиях Степлага новым сортом помидоров, который получает название «Спасская красавица».
Именно искренность Степана Кузнецова позволяет в какой-то мере понять то, что сегодняшнему читателю осознать почти невозможно: как могли такие люди, как он, пройдя через сталинские тюрьмы и лагеря, оставаться преданными советской власти и Коммунистической партии. Ведь он знал, что сажают всех его друзей-харбинцев, понимал – узнал от следователя и на личном опыте, – что признательные показания сотрудники НКВД получают от арестованных под пытками, и что действуют они по указанию сверху. Но и это не могло поколебать его веру. Характерен эпизод в его воспоминаниях, когда, оказавшись в одной камере с заключенным-поляком и вернувшись с пыточного допроса, он «своему соседу не обмолвился ни единым словом о производимой экзекуции, считая, что этим позорным делом делиться с иностранцем не следует. Мы эти временные позорные явления как-нибудь внутри себя переживем, без вмешательства и сострадания со стороны».
И даже после многолетних лагерных мытарств он по-прежнему считает себя советским человеком и коммунистом, который и в каторжном лагере работает «на благо страны» – «не за страх, а за совесть», как он сам пишет. Эта вера в партию и в советскую власть, невозможность расстаться с идеалами своей молодости, вела в результате к двоемыслию, переходящему в самогипноз. И так было со многими коммунистами, которые, даже выйдя из сталинских лагерей, не хотели признать очевидного – ответственности партии и государства за массовый террор.
Однако эта вера не мешает Степану Кузнецову правдиво описывать бесчеловечный и проникнутый жестокостью и цинизмом мир ГУЛАГа, где эпизоды, касающиеся, например, женщин в лагере и поведения блатных, и многие другие, напоминают рассказы Шаламова.
Ценность этих воспоминаний еще и в том, что они принадлежат к числу ранних, написанных по свежим следам – после 20 съезда, но до публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» и вызванного этой публикацией потока лагерной мемуаристики. Их автор умер за полгода до того, как повесть Солженицына увидела свет. И будем справедливы – тогда его точку зрения разделяли многие, мечтая о возврате к «ленинским нормам», считая, что ответственность за то, что с ними было, лежит лишь на Сталине и органах НКВД. Поэтому Кузнецов и называет свои записки: «В угоду культа личности».
Конечно, он не мог тогда знать ни о механизме террора, ни об истинном размахе репрессий, ни о многом другом, о чем нам известно сегодня. Не знал о том, что его судьба, как и судьба сотен тысяч таки, как он, была предопределена распоряжениями и приказами, исходившими с самого верха. Этот труд – показать, как работала государственная машина, в жернова которой попал Степан Кузнецов, проделал спустя много лет его внук Сергей Прудовский.
Документы, собранные им в разных архивах, и создают фон для рассказа советского человека, помещенного в оруэлловский абсурд сталинской реальности.
И. Щербакова, председатель совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал»Введение
Мой дедушка, Степан Иванович Кузнецов, родился 12 (24 по новому стилю) июля 1889 года, в деревне Шумилово Оленинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии (ныне Богородский район) в бедной крестьянской семье. Отец, Иван Николаевич, – землекоп, мать, Евдокия Кузьминична, – крестьянствовала на имеющихся трех десятинах земли и растила пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей.
Закончив 3 класса церковно-приходской школы, дедушка с 11 лет начинает трудиться в Нижнем Новгороде, где работает землекопом его отец: сначала моет посуду в трактире, а начиная с 1904 года и по 1911 год – маляром: то у различных подрядчиков, то на Сормовском заводе, то снова у подрядчиков, то снова на Сормовском… Несколько раз его увольняют за участие в рабочем движении.
В ноябре 1909 года дедушка женится на Елизавете Мельниковой, 16-летней девушке из той же деревни, а через два года, в октябре 1911-го, его забирают в солдаты. Местом службы определен арсенал Московского Кремля, его артиллерийские мастерские.
Февральскую революцию, как, впрочем, и Октябрьскую, воспринял с большим энтузиазмом и принял в них посильное участие, даже был избран от артиллерийских мастерских арсенала Московского Кремля в Московский совет солдатских депутатов. К моменту октябрьского большевистского переворота разделяет и поддерживает линию большевиков, а через год, в октябре 1918 года, Замоскворецкий райком ВКП(б) Москвы принимает его в члены партии.
С 1918 по 1920 год продолжает служить там же, в мастерских арсенала, но уже в качестве красноармейца. Затем поступает на рабфак им. Покровского 1-го Московского государственного университета, биологическое отделение которого оканчивает в августе 1922 г. С сентября того же года продолжает образование в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Оканчивает ее в январе 1927 года. Учебу совмещает с работой, сначала на выборной должности члена правления «Коопрабфаквуз»[1], затем в издательствах «Висти» ВУЦВКа УССР и «ТСА-кинопечать».
В мае 1928 года по решению ЦК ВКП(б) направлен на работу в отдел семеноводства Наркомзема РСФСР, откуда в апреле 1929 года командируется на Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД) для изучения агротехники соевых бобов. Командировку прервал вооруженный конфликт[2], и в конце июля 1929 года Степан Иванович возвращается в Москву, в Наркомзем.
Конфликт на КВЖД завершается в самом конце года, а уже в конце января 1930 года – новая командировка в Харбин. Задание – закупка посевного материала соевых бобов в количестве 300 тыс. пудов. По выполнении этого задания Управление КВЖД ходатайствует перед НКПС и Наркомземом РСФСР об оставлении Кузнецова на агрономической работе в Маньчжурии в должности коммерческого агента.
В 1931 году в Харбин приезжают жена Елизавета Андреевна и дочь Мария (моя мама), которая заканчивает там общеобразовательную семилетку, потом Индустриально-транспортный техникум КВЖД для детей граждан СССР и в 1934-м поступает в Харбинский Политехнический институт.
Дедушка успешно продвигается по служебной лестнице. В 1931 году его назначают заведующим Харбинским опытным полем, а уже в следующем году назначают врио начальника Земельного отдела Управления КВЖД. Им написаны несколько статей об агротехнике сои для периодического журнала «Вестник Маньчжурии», издававшегося в Харбине, и книга по аналогичной тематике.
После продажи КВЖД Маньчжоу-Го, в начале апреля 1935 года, дедушка с семьей возвращаются в Москву. Работает старшим агрономом – зав. сектором ЦУРС (Центральное управление рабочего снабжения) НКПС, а затем, в 1936 году, откомандирован в Наркомзем СССР, где занимает различные «агрономические» должности.
В феврале 1941 года по сокращению штатов уволен из Наркомзема и поступает на работу в Загорский прицесовхоз им. Ворошилова и занимает должность управляющего и агронома участка «Семхоз».
Таков вкратце жизненный путь моего дедушки до ГУЛАГа.
В 1961–1962 годах им были написаны две тетради воспоминаний, охватывающие период от ареста в 1941-м до освобождения в 1955 году – после 14-летнего пребывания в лагерях. Про период реабилитации он практически ничего не успел написать из-за смерти в 1962 году.
Оригиналы воспоминаний хранятся в архиве общества «Мемориал» (ф.1, оп.5 д. 1348). Воспоминания публикуются впервые.
Архивное уголовное дело № Р-2187 хранится в Центральном архиве ФСБ, часть документов из него и из семейного архива публикуется во второй части книги.
Все тексты воспроизводятся в соответствии с современными правилами орфографии, орфографические ошибки, описки и опечатки исправлены без оговорок.
В угоду культа личности
Воспоминания Степана Ивановича Кузнецова
Предисловие автора
Я долго раздумывал, стоит ли мне писать о тех грустных переживаниях, которые мне пришлось перенести за четырнадцатилетнее пребывание в лагерях, когда в течение многих лет в нашей стране царил произвол. Во имя культа личности направо и налево арестовывались члены КПСС, независимо от их заслуг перед революцией, от положения в партии и т. д. После раздумий я все же решил, что надо писать ради установления истины, тем более что на XXII съезде коммунистической партии Н.С. Хрущев в заключительном слове сказал: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью… Но нужно, чтобы в истории партии об этом было правдиво рассказано, это для того, чтобы подобные явления никогда не повторялись».
Особенный произвол творился в отношении товарищей, которые партийными и правительственными органами направлялись работать за границу.
Эти товарищи посылались за границу как стойкие партийные и советские работники, но, когда они возвращались в пределы своей социалистической родины, на них смотрели как на иностранных шпионов, предателей родной Коммунистической партии. За ними устанавливалась слежка, потом их арестовывали вместе с женами, а их детей часто бросали на произвол судьбы, и многие из них становились беспризорными…
Их судили или же без суда и следствия ссылали в лагеря на 10–15–20 и 25 лет, где они терпели голод, холод и нечеловеческие издевательства; многие свое бренное тело оставили на «девятой делянке» лагерей. Сколько было погублено ни за что старых и молодых человеческих жизней.
Одним из многих несчастных товарищей был и я. Не совершив никакого преступления против своей родной Коммунистической партии, против своей Социалистической родины, я все же по проискам врагов народа, в угоду культа личности, в 1941 году, в апреле месяце, был арестован и предан «Бутырскому» суду, именующемуся Верховным судом Советского Союза, который приговорил меня к 15 годам ИТЛ.
Во время сидки в тюрьме меня подвергали самым гнусным издевательствам, какие в старой России творились в средневековые времена.
Меня клали на «правеж», избивали резиновыми палками до потери сознания и не давали воды.
За 14-летнее пребывание в лагерях чего только мне не пришлось перенести: и холод, и голод, и унижения, вплоть до ношения на спине, брюках и фуражке презренных номеров.
Сколько невзгод и унижений за это время претерпела моя ни в чем не повинная семья.
Сколько было написано жалоб мною и моей семьей на имя того или иного высокопоставленного лица в течение этих 14 лет в поисках справедливости и революционной законности.
Сколько в то время у меня было веры в тех или других высокопоставленных лиц, но, к моему стыду и сожалению, эта высокопоставленная «братия» работала не в угоду Советскому народу, не в угоду революционной законности, она работала в угоду культа личности, в угоду презренного врага партии и советского народа иностранного шпиона Берии.
И лишь со смертью Сталина и разоблачением Берии, как врага Коммунистической партии и Советского народа, Советский народ вздохнул свободно. И только тогда и для нас, и для наших семей наступило торжество свободы и справедливости…
1. Арест
Я в то время работал под Загорском Московской области, в одном совхозе агрономом.
Весна в разгаре, в совхозе идет усиленная подготовка к весенней посевной: трактора и сельхозинвентарь отремонтирован; посевной материал подготовлен; проверен на всхожесть, чистоту и влажность.
20 апреля был произведен первый выход в поле, так что все говорило в пользу того, что совхоз полностью готов к весенней посевной. Дело оставалось лишь за почвой, на которой еще лежал снег, в особенности в низких местах.
Вечером 24 апреля я созвал совхозный актив, на котором был рассмотрен пятилетний план раскорчевки леса и кустарника для расширения посевной площади совхоза. Заседание продолжалось допоздна, и мне пришлось ночевать у одного из работников совхоза, так как своей квартиры в совхозе у меня не было.
Утром 25 апреля 1941 года только что кончилась разнарядка, я вошел в контору, сел за стол и приготовился позавтракать. Но не успел я выпить кружку молока, как ко мне в комнату без стука влетели три «молодчика», довольно солидных по комплекции, в штатской одежде.
Я был в недоумении, почему эти «молодчики» так бесцеремонно и нагло ворвались ко мне.
Не успел я еще от этой наглости очухаться, как один из них в довольно грубой форме обратился ко мне:
– Вы будете такой-то?
– Да, я.
– А чем вы можете это подтвердить?
Я, видя его наглость, в свою очередь обратился к нему:
– Скажите, пожалуйста, с каких это пор в Советском Союзе неизвестные люди так нагло врываются в дом, как бандиты, и требуют от хозяина документ, удостоверяющий личность? – И в свою очередь предлагаю этому «молодчику» предъявить мне его документ.
Он тогда полез в свой карман, вытащил маленькую книжечку и предъявил ее мне.
Это оказалось удостоверение личности, выданное НКГБ[3] Союза.
После чего я ему предъявил свой паспорт.
Как только он удостоверился, что перед ним находится именно тот человек, который им нужен, он предъявил мне документ на право у меня обыска и ареста…
Конечно, я этому не стал сопротивляться, поскольку это было бы бесполезно – а главное, я считал, что все это есть какое-то недоразумение…
Первым делом все, что было у меня в карманах – партийный билет, профсоюзный билет, паспорт, часы и деньги, – я выложил на стол. Не доверяя мне, один из агентов, самый здоровый парень, проверил мои карманы, но там уже ничего не было – все лежало на столе.
Потом они стали производить тщательный обыск в моем письменном столе, а также в стоявшей здесь корзине.
Взяли у меня ключи от одной свободной комнаты и пошли туда с обыском, не приглашая меня.
Воспользовавшись свободным временем, я хотел возобновить свой прерванный завтрак, для чего спросил разрешения у присутствовавшего здесь агента, но он мне воспретил допить молоко и съесть кусок хлеба, вероятно, опасаясь, нет ли в молоке и хлебе отравляющих веществ.
Обыск окончен, документы отобраны, составлен соответствующий протокол, в котором не было записано ничего, инкриминирующего меня.
Протокол был подписан обеими сторонами, т. е. представителями НКГБ и мной.
После подписания протокола меня, как «важного государственного преступника», в сопровождении троих здоровенных «молодчиков», один из которых шел впереди, а двое по бокам, вывели из конторы.
Вышли на улицу; на улице в это время шел сильный мокрый снег, земля была покрыта белым, чистым снегом, как будто бы чистым белым саваном; ну, думаю, земля получит еще дополнительную влагу, а это для будущего урожая неплохо.
Так как их машина не въезжала на территорию совхоза, а остановилась примерно в 1,5 км от совхоза, то меня повели вдоль полотна железной дороги.
Дошли до машины, сели в нее. Меня посадили на заднее сиденье, а по бокам село по агенту, а один сел рядом с шофером. Поехали в Загорск…
В Загорске машина остановилась около гостиницы, где я временно проживал.
Один из агентов вышел из машины, а двое остались при мне; вышедший агент пошел в гостиницу, в номер, где я проживал, взял мои вещи – полотенце, мыло, зубную щетку и зубной порошок – и все это передал мне.
Потом поехали в районное отделение НКГБ. Здесь один из агентов снял телефонную трубку, набрал соответствующий номер и спросил кого-то: «Ну как у вас дела?»
Что ему ответил вызываемый им номер, для меня было неизвестно, но вызывавший сказал: «У нас все хорошо!»
Из этого разговора я понял, что он звонил ко мне на московскую квартиру и что там, вероятно, идет обыск. Если да, то надо полагать, что с обыском пришли ночью, с 24 на 25 апреля[4].
В действительности так и было.
Вот, как мне рассказали впоследствии, было дело.
2. Обыск в квартире
В ночь на 25 апреля в квартиру пришли два офицера в форме НКГБ, прошли через коридор в комнату Полонских, там разделись и потом постучались в мою комнату; в комнате была одна жена.
Она была в недоумении: кто мог прийти к нам в столь позднее время? А еще больше была поражена, когда открыла дверь и увидела перед собой двух человек в военной форме.
Эти два молодца вошли в комнату и предъявили ей документы на право обыска[5]. Вместе с ними было двое уполномоченных[6] из жильцов нашего дома.
После предъявления документа на право обыска они немедленно приступили к делу.
Обыск продолжался довольно долго.
Он проводился не только в моей комнате, но и на чердаке, в сарае – там копали и рыли землю, ища чего-то.
Впоследствии я узнал, что они искали где-то якобы зарытые в землю деньги.
Оказывается, Полонская Е.Н., живущая с нами в одной квартире[7], рассказывала Щелкунову С.М., что я из Маньчжурии привез 25 000–30 000 руб. (показания Щелкунова на следствии[8]). А раз Полонская говорила Щелкунову, то, соответственно, она не могла умолчать и перед работниками НКГБ, но, к стыду агентуры, а главное, к стыду четы Полонских, нигде ничего инкриминирующего меня найдено не было.
При обыске было изъято:
– 2 фотоаппарата, из них один принадлежал дочери, на что из таможни было выдано свидетельство на ее имя;
– пишущая машинка «Ундервуд»;
– двое дамских золотых часов, принадлежащих жене и дочери.
Произвели опись домашних вещей, одежды и обуви, принадлежащих мне. Все это было оформлено соответствующим документом.
• • •
В Загорском отделении НКГБ пробыли 20–30 минут, а потом отправились в Москву.
В Москву меня доставили около трех часов дня – на Лубянку к зданию НКГБ.
3. В тюрьме на Лубянке[9]
Ввели в здание, поместили в бокс. В боксе меня тщательно обыскали, заглядывая во все телесные верхние и нижние отверстия с приседанием…
И вот внизу пальто между швами как-то попала медная монета, о которой я не имел представления. Охранник, как только ее обнаружил, возгорелся радостью, что «вот, вы заранее готовились попасть сюда, потому и спрятали медную монету и думали пронести ее в тюрьму». Как я его ни убеждал, что это неправда и что вряд ли найдется какой-либо советский человек, который бы готовился заблаговременно попасть в этот дом, мои слова на него не имели никакого действия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Кооператив рабочих факультетов, созданный в мае 1921 г. В момент образования он объединял три крупных рабфака: 1) им. Покровского, 2) им. К. Маркса и 3) Пречистенский, с общим числом членов 1.500 чел. (Кооперативный справочник: Москва – 1922. Издание Московского Потребительского Общества, стр. 89.)
2
Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге – советско-китайский конфликт, произошедший после захвата 10 июля 1929 года китайскими властями контроля над КВЖД. После бесплодных переговоров 12 октября начались наступательные операции Красной армии, в результате которых китайские войска понесли значительные потери. 22 декабря был подписан Хабаровский протокол, положивший конец конфликту и восстановивший статус дороги, существовавший до столкновений.
3
Народный комиссариат Государственной безопасности был выделен 3 февраля 1941 г. из Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).
4
В протоколе обыска в московской квартире указано, что он начался в 11 часов дня 25 апреля и закончился в 2 часа ночи 26-го (Архив Международного Мемориала. Ф.1. Оп.5. Д.1348. Л.134 об.).
В ходе обыска был наложен арест на имущество, лично принадлежавшее Кузнецову (книги и переписка по вопросам сельского хозяйства), которое было опечатано в 2-х корзинах и оставлено на хранение жене (ЦА ФСБ. АУД Р-2187. Л. 12.). Позднее, 21 мая, корзины были распечатаны, их содержимое изъято и доставлено в НКГБ.
Тогда же, 26 апреля, был наложен арест и оставлены (по описи) жене на хранение ценные вещи (фотоаппарат, часы и т. п.); 29 сентября 1941 года эти вещи были изъяты и в тот же день сданы по Акту в Госфонд, как конфискованные (Архив Международного Мемориала. Ф.1. Оп.5. Д.1348. Л.136, 137).
Кроме того, 26 апреля 1941 года были изъяты для доставления Кузнецову (в тюрьму) постельное и нательное белье, а также предметы гигиены. Все изъятые предметы сданы по описи дежурному помощнику внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД (Архив Мемориала. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1348. Л. 136). Подпись об их получении Кузнецовым в документах отсутствует.
Обыски и изъятия производились и в других местах:
– в Загорском птицесовхозе – с 8:30 до 10:30, 25 апреля 1941 г., изъяты личные документы, записные книжки, переписка, «клочки порванных двух записок, написанные карандашом, всего 18 клочков»… (ЦА ФСБ. АУД Р-2187. Л. 10 и 11);
– по месту предыдущей работы – в Наркомате совхозов РСФСР, 26 апреля 1941 г., изъято личное дело на 8 листах (Там же. Л. 9);
5
Ордер на производство ареста и обыска (см. Документ 3.).
6
Понятых.
7
Коммунальная квартира располагалась на третьем, последнем, этаже дома 5 в переулке Садовских (сейчас – Мамоновский пер., дом 5., стр. 2). В ней проживало 6 семей. Семья дедушки занимала там одну, самую большую (22 м2) комнату.
8
Показания Щелкунова С. А. в АУД отсутствуют.
9
Внутренняя тюрьма ГУГБ НКВД на Лубянке в 1920–1961 годах размещалась в бывшем здании гостиницы страхового общества «Россия» и использовалась для содержания под стражей особо важных подследственных. На 1941 год вместимость тюрьмы была 570 человек. Адрес: г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 2. (http://topos.memo.ru/ vnutrennyaya-tyurma-na-lubyanke).