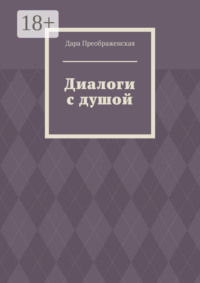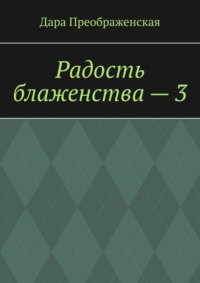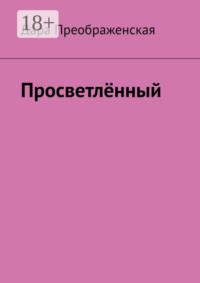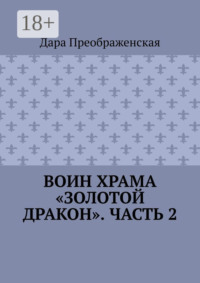Полная версия
Освобождаясь от оков
В голове всё спутывается, я не обращаю внимания на улыбающиеся лица Наташи и Вари – моих соседок, не слышу, что они говорят мне, камнем бросаюсь на кровать и с головой зарываюсь в подушки, как страус. Ему почему-то кажется, что никто не видит его, хотя со стороны он выглядит довольно глупо и смешно.
Осознаю себя уже в рамках совсем другого пространства, где ничего не зависит от моего контроля и воли и обнаруживаю, что это сон.
Во сне я вижу, как стою рядом с огромным кубом льда, внутри которого замурован Витька. Он глядит на меня своими серыми глазами и не дышит. Рядом слышится смех Наташи весёлый и раскатистый, но почему-то меня раздражает этот смех. Я подхожу ко льду и начинаю усиленно ковырять его, чтобы освободить Витьку, но у меня ничего не получается, лёд слишком холодный, а вокруг нет никаких подручных инструментов.
– Помогите! – слышу я свой крик, меня никто не слышит, я кричу всё громче до хрипоты, а на меня смотрит равнодушная безликая толпа.
Вглядываюсь в толпу, различаю отдельные лица Светланы Савельевны, своих бывших подруг и приятелей, сослуживцев и одноклассников, их становится всё больше и больше. Затем перевожу взгляд на лёд, он стал намного толще.
– Помогите!
И тут слышу:
– Открой глаза!
Смотрю на толпу и не могу понять, кто сказал эти слова, потому что лица смешиваются в одну сплошную массу.
– Открой глаза!
Наконец открываю их. Утренние лучики Солнца успели пробиться сквозь тёмные синие стены, я осматриваюсь, чтобы только обнаружить, что нахожусь в своей комнате, на своей кровати, и уже раннее утро. Вижу склонённое надо мной строгое лицо Светланы Савельевны, вслушиваюсь, что она говорит мне:
– Вера Снегирёва, Вы на ночь забыли выпить успокоительное. Сегодня я назначила Вам физиопроцедуры. Думаю, они пойдут Вам на пользу при условии, если Вы перестанете внушать себе, что больны. Вы просто воспринимаете всё иначе по сравнению с другими, Вам следует взять себя в руки. Некоторые люди специально занимаются симуляцией, чтобы вызвать к себе внимание.
Я поднимаю голову с подушки, мысленно решив, что должна непременно увидеть Витьку и рассказать ему о своём сне. Наташа и Варя застёгивают дорожные сумки, прихорашиваются, постельное бельё с их кроватей уже убрано, и сейчас вместо него красуются голые заляпанные жиром матрасы.
– Мы уезжаем, – поясняет Наташа. У неё голубые глаза, длинные белокурые волосы и красиво очерченные брови. Такой же я видела её в своём сне.
– Куда? – машинально спрашиваю я, даже не подумав о смысле своего вопроса.
– Домой, в Верховск. Мы из одного города, – поясняет Варя.
Только сейчас до меня доходит, как долго я спала и как всегда опоздала на завтрак, теперь получу ещё один нагоняй от тёти Клавы, хотя аппетита у меня совсем нет. За всё время это впервые со мной, знакомлюсь со своими новыми ощущениями. «Теперь в комнате я останусь одна, и никто не помешает мне быть собой», – думаю я, сразу же найдя преимущество своего будущего одиночества. Впрочем, это ненадолго, до прибытия следующего пациента. Но одиночество я люблю, несмотря на то, что Светлана Савельевна считает эту мою склонность проявлением болезни.
Попрощавшись, она уходит, а я молча иду за девушками вплоть до выхода из здания санатория в одном халате, несмотря на начинающиеся холода. Они идут сквозь сад к автобусной остановке, я же останавливаюсь метрах в десяти от здания. К своему удивлению в окне третьего этажа вижу грустное Витькино лицо, он следит за удаляющимися девушками, словно губка, впитывающая последние мгновения. Машу ему рукой снизу, но он не замечает меня. Последние мгновения. Жуткая мысль. Я отгоняю её подальше, корчусь от холода и возвращаюсь обратно в здание. Слышу голос дневной уборщицы:
– Ну что, проводила?
Киваю, иду к лестнице, но вдогонку слышу всё тот же голос:
– Не боишься простудиться-то? На улице уж декабрь.
Отмахиваюсь и иду своей дорогой.
…
…В процедурной хорошо, спокойно, тихо. Мне нравится, когда тихо, и тебе никто не мешает. Здесь проводятся физиопроцедуры, есть ещё кабинет для инъекций, но там я была всего два раза, когда мне кололи «реланиум». Мне нравится спокойная, всегда обходительная медсестра Антонина Михайловна, недавно ей исполнилось сорок лет, накрывали стол, где собирались только одни сотрудники санатория, но Антонина Михайловна звала также отдыхающих. Я не пошла, хотя искренне желала ей всего самого лучшего, что обычно желают в дни рождения. В тот день она угостила меня тортом, когда я пришла вечером на лечение.
Мне даже кажется, что тебе помогают не столько физиопроцедуры, назначаемые врачом, сколько дружелюбное отношение медсестры, её тепло, уют, спокойствие и тишина кабинета. С физиопроцедур я возвращаюсь всегда умиротворённой и редко впадаю в плач. Увы, в мире таких людей значительно меньше, чем агрессивных и корыстных, иначе все псих лечебницы давно бы оставались пустыми. Я никому не высказываю своих мыслей, просто думаю, что не поймут.
Антонина Михайловна, как обычно, приветливо улыбается мне:
– Здравствуй, Вера! Давно я жду тебя. Как сегодня спалось?
– Хорошо.
– Ложись, – она готовит для меня кушетку, обрабатывает её разведённым раствором хлорки, от которого исходит крепкий запах, так положено.
Я охотно подчиняюсь, ощущая, что теперь заботу обо мне возьмут на себя её мягкие тёплые руки. Возможно, такие же руки должны были быть у моей мамы, если бы она не отказалась от меня после родов. И вообще, я люблю всё тёплое и нежное, даже засыпая, я представляю себе махровое полотенце, совершенно новенькое, в которое я укутываюсь, чтобы насладиться своим состоянием.
Антонина Михайловна просит меня закрыть глаза, затем одевает на моё лицо специальное приспособление в виде очков с толстыми тёмными стёклами, далее она уходит куда-то, и некоторое время я лежу одна. Вот тут-то и начинается глубокое успокоение, потому что я проваливаюсь в состояние блаженства. Затем она возвращается и говорит:
– Верочка, сосредоточься, сейчас будет твой любимый электросон.
Включает прибор, и я уже больше ничего не чувствую. Я давно играю в такую игру. Я вообразила себе, что электросон – это нечто вроде кино, только показывают его не на внешнем экране и не для всех, на внутреннем и только исключительно для тебя. Антонина Михайловна с охотой приняла правила этой игры, потому что после очередного сеанса я рассказываю ей о своём «сновидении», хотя обе мы прекрасно понимаем, что всё это – игра воображения.
На этот раз я тоже должна увидеть свой сон, поэтому я закрываю глаза и мысленно сосредотачиваюсь на внутреннем экране, отражающем лишь картины моего воображения. Далее я действительно сплю, не замечая, что происходит вокруг и в частности то, что в физиокабинет приходят другие больные (отдыхающие) за получением своей порции спокойствия и приветливости Антонины Михайловны. Я конечно же не слышу того, как они шаркают своей обувью по деревянным доскам пола, давно истёршимся и частично лишённым краски.
Наконец раздаётся пиканье часов, которые завели на определённое время, и ты открываешь глаза почти автоматически. Антонина Михайловна подходит к тебе, помогает подняться с места и всё так же приветливо спрашивает:
– Ну что на этот раз?
И я начинаю рассказывать очередную картину.
– Я видела большое поле, полное жёлтых одуванчиков. Ещё было много пчёл и три яблони. Я видела себя маленькой девочкой абсолютно счастливой и беззаботной, она срывала яблоки и пела какую-то песенку. Вы даже представить себе не можете, но я действительно слышала её песенку.
Антонина Михайловна кивает, и только сейчас я замечаю, как в нижнем углу её глаза появляется слеза. Всматриваюсь, она быстро смахивает её, чтобы я не успела заметить, но я вполне серьёзно говорю:
– Мой сон вызвал у Вас какие-то воспоминания?
– Это пройдёт, не обращай внимания, – она вновь по—прежнему улыбается и чуть слышно добавляет, – Это давно забытая история и не такая интересная, как твой сон.
– Вы хотите, чтобы Вас кто-то выслушал, но никому не можете довериться.
Она удивлённо смотрит на меня, вздыхает:
– Возможно. У каждого человека свои проблемы.
Я доверительно в первый раз глажу её по плечу, впервые поняв, что кто-то может опереться и на меня.
– Если Вам будет очень плохо, приходите в мою палату, я Вас всегда выслушаю, точно так же, как выслушивали Вы меня.
Антонина Михайловна не успевает ответить, потому что в этот момент раздаётся очередное пиканье часов, это значит закончилась чья-то лечебная процедура. Она быстро встаёт, говорит, чтобы я забыла обо всём, сохранив только приятные впечатления, и уходит.
Ей сорок лет, она ещё неплохо выглядит, но тоже боится лишиться работы, если вдруг начальство узнает, что она входит в доверительные отношения с отдыхающими. Светлана Савельевна не раз устраивала пятиминутки, где недвусмысленно давала понять, что в её коллективе не может быть фамильярности и панибратства. Я сама слышала это, когда очередной раз проходила мимо её кабинета на втором этаже, я часто гуляю вдоль коридоров, так дурные мысли меньше лезут в голову.
Мне жаль покидать эту приятную светлую комнату, и Антонина Михайловна представляется мне Солнцем, изливающим в мир доброту и любовь, но я вынужденно делаю это, чтобы не бросать подозрения на медсестру, иначе я осталась бы и выслушала её до конца, чтобы помочь ей освободиться от неприятных эмоций, ведь должен же кто-то периодически очищать Солнце, чтобы оно могло сиять всегда, даря своё спокойствие и улыбки окружающим.
Я прощаюсь с Солнцем и ухожу к себе в абсолютно пустую и одинокую комнату, хотя меня вовсе не пугает это одиночество. Наоборот, я даже рада. В голове быстро вырастает план того, чем же я займусь в своём одиночестве, у меня повышается настроение.
Достаю свой измятый календарик с какой-то красивой девушкой на лицевой стороне и отмечаю свой шестой день, проведённый в санатории. Осталось ещё двадцать четыре. Двадцать четыре дня «тюремного заключения», и я вновь соединюсь с серой обыденной жизнью, от которой всегда хотела убежать, скрыться в неизвестном направлении. Кто знает, быть может, в одиночестве время пролетит значительно быстрее. Я очень хотела бы прочесть Витькину тетрадь, я чувствовала, что найду там что-то важное для себя, но мне не давал покоя мой сон и его удручающее поведение со мной в тот день в тёмном коридоре. Он словно прощался со мной…. Прощался?
…
В столовой за ужином тихо, даже подозрительно тихо. Степанов Артём по кличке Соловей ведёт себя спокойно, не кричит, голоса не повышает. Обычно он всегда требовал большой кусок омлета или самые лучшие отбивные, и тётя Клава с ним зубоскалила. Это зубоскальство конечно же ни к чему не приводило, Соловей оставался при своей маленькой отбивной, которую одним махом клал в рот и смачно пережёвывал, не желая принимать доводы буфетчицы относительно положенных и выделенных государством норм питания на каждого отдыхающего. «А я голодный!» – орал Соловей.
«Попей водички, авось твоя ненасытная утроба успокоится», – не унималась тётя Клава.
Сегодня всё по-другому, непривычно как-то. И Соловей сидит в сторонке и молчит, каша не кажется ему переполненной солью, чай, лишённый сахара, а котлеты имеют вполне подходящие размеры. Я исподтишка смотрю на Соловья, неся свою порцию ужина на старом засаленном подносе. Соловей понурился, голову опустил, медленно жуёт хлеб, не всегда донося его до рта.
Сажусь за свой крайний облюбованный столик у окна, где никто меня не может потревожить, перекладываю тарелки с подноса на стол. Сегодня на ужин пшённая каша, два маленьких тефтеля в аппетитной подливке и кисель. Начинаю поглощать своё скромное блюдо. После дополнительной порции мне хочется быстрее разыскать Витьку, чтобы попросить у него тетрадь со стихами, несмотря на свой конфуз.
Но всё же что-то настораживает меня, внутренние сигналы души давно сигнализируют: «Что-то не так в сегодняшнем вечере». Что не так? Не могу понять. Ещё раз прохожу глазами по всей обстановке, вроде бы всё то же, что и обычно, но все какие-то придавленные, будто на них только что сбросили целую груду кирпичей. Где же Витька?
Я прерываю свою трапезу, хотя не имею такой привычки, встаю из-за стола и подхожу к буфету. Оттуда слышно, как журчит вода из крана, я догадываюсь, что тётя Клава моет посуду. Заглядываю в маленькое окошко и вижу её, склонённую над грудой тарелок. Она ловко очищает их от остатков каши, хотя в последнее время отдыхающие всё реже и реже оставляют недоеденными свои порции, говорили раньше это случалось намного чаще. Меня настораживает то, что тётя Клава поглощена своей работой и совсем не выходит в зал, чтобы пожурить отдыхающих и пошутить с некоторыми из них. Если бы она поступала так каждый день, я бы без задних мыслей просила у неё дополнительную порцию для «своей ненасытной утробы». Наверное, сегодня особый случай.
– Тётя, Клава, – чуть ли не кричу я в окошко, стараясь перекричать шум воды, – Что случилось?
Она хмурится как-то мрачно, и это тоже не совсем естественно для неё, что-то бормочет себе под нос. Я вслушиваюсь:
– Молодёжь, тоже мне…. Делать что ли больше нечего.
Ещё раз ненавязчиво повторяю свой вопрос:
– Что случилось?
Только сейчас она замечает меня, как-то недоумённо глядит в окошко, оставляет на время свою работу.
– А, это ты, Вера, – говорит она вполне обычно, но почему-то мне кажется, что в её тоне сквозит печаль. Да, это моя дурная привычка, я всегда анализирую и делаю выводы раньше времени, а уж потом начинаю касаться реальности. Я встряхиваю головой. Видно, мне показалось.
– Что случилось? – ещё раз спрашиваю я.
– Витька-трясучка повесился.
Гляжу на свой стол с едва начатой порцией ужина, сегодня я могла бы поделить её с Витькой, но его почему-то нет. Однако последние слова тёти Клавы пригвождают меня к месту. Я мотаю головой.
– Нет, этого не может быть, он же писал стихи и мечтал о другой жизни.
Я говорю это так, чтобы только что-то сказать, совсем не замечая, что тётя Клава прислушивается к моим словам.
– Вот и пойми вас, молодых, – продолжает она бурчать, затем вновь обращается к груде брошенных тарелок, на столике возле буфета эта груда уже выросла раза в два, но только многие так и оставили кашу нетронутой….
У себя в комнате я впервые ощущаю, что начинаю замерзать, меня трясёт, наверное, это от холодов, ведь сегодня обещали минус двадцать шесть, а отопление в санатории слабенькое, батареи едва тёплые. Набрасываю на себя ворох одеял, среди которых два ватных, выпросила у кладовщицы, сворачиваюсь комочком и чувствую, как меня ещё сильнее начинает трясти.
В голове почему-то одна и та же картина: удаляющаяся фигура Наташи с огромной сумкой, набитой вещами и грустное лицо Витьки в окне, глядящее ей вслед. Совсем не замечаю, как почти что вслух начинаю разговаривать сама с собой:
– Теперь я понимаю, почему он был таким в коридоре, я знаю, почему он решил прочесть мне свои стихи. Я знаю, почему он хотел меня поцеловать…. Он прощался со мной. Наверное, он что-то хотел мне сказать ещё, что-то очень важное, но я не смогла выслушать его там, на лестничном пролёте. Он хотел со мной попрощаться….
Мои глаза наполняются слезами, нет, они не просто наполняются, они буквально затапливаются ими, будто кто-то невидимый в моей душе открыл шлюз, и вода устремилась наружу бурным потоком. Говорят, слёзы приносят облегчение, но мои слёзы не могли дать мне освобождение от мучивших меня тогда угрызений совести. Я боялась оставаться в этой комнате, но и выйти мне было некуда. Антонина Михайловна, закончив рабочий день, пошла домой, сидеть в буфете мне не хотелось. Скорее всего, я выскочила в коридор и уснула, плотно прижавшись к батарее, так как утром меня нашла уборщица и в полусонном состоянии отвела в комнату, чтобы уложить на кровать. Этого я сейчас не могу вспомнить, помню только, что у меня была тяжёлая голова, и я очень боялась одиночества.
На следующий день в моём дневнике появилась новая запись.
«Я взяла на себя ещё один грех, не смогла выслушать до конца человека. Он хотел сказать мне что-то очень важное, и возможно, я помогла бы ему, но теперь уже поздно. Слишком поздно…. Его не вернуть к жизни. Я не должна была оставлять его одного в тот день. Я должна была довериться своим ощущениям и чувствам, а не отбрасывать их. Нет, я – такая же, как и вся эта серая масса, безликая и равнодушная. Я ничем не отличаюсь от них.
…Я боюсь спать, потому что мне кажется, что лёд станет ещё толще, и Витька так и задохнётся в нём…»
…
Светлана Савельевна молчит. На этот раз она отбросила свои записи, хотя шариковую ручку держит наготове, но она всё же внимательно смотрит на меня.
Я вытираю со щеки слезу, размазываю её по лицу, меня больше не интересует её кабинет, не интересуют настенные часы с кукушкой, кремовые стены и телефон, который почему-то сегодня совсем не трещит. Я смотрю в одну точку на стене, краем глаза вижу прямую фигуру врача.
– Успокойтесь, – говорит Светлана Савельевна, но её слова оказывают на меня обратный эффект, – Что ещё Вы можете мне сказать?
– Он не должен был умирать, – навзрыд говорю я, – Он не был болен шизофренией, он просто очень сильно страдал.
– Страдал? Вы что-то знаете об этом?
У меня чуть не вырвалось: «Он писал стихи!», но я вовремя замолчала, их могли изъять. Всё, что мне оставалось, это вновь промолчать, вернее, вытереть бурные потоки слёз.
– Успокойтесь, – даже сейчас Светлана Савельевна не берётся за свои записи, значит, я всё ещё вызываю у неё интерес, – Каждый находится на своём месте и должен выполнять свою работу, как я.
– Вы считаете себя образцовым человеком, всегда живёте по накатанной колее, приходите на работу, уходите с неё, Вам платят за это деньги. Больше Вас ничего не касается. Вас не касается то, что человек – это очень хрупкое создание, его легко сломать, морально сломать! Выпишите меня отсюда, иначе я пешком уйду из вашего чёртового санатория!
Я совсем не замечаю, как в этот момент Светлана Савельевна делает движение, в её руке оказывается телефонная трубка, она набирает внутренний код и быстро что-то говорит. Я не слышу её голоса, потому что и так изрядно истощена и вымотана. Через минуту-две в кабинете врача появляется медсестра со шприцем в правой руке.
– Давай быстро, – раздаётся знакомый голос Светланы Савельевны, медсестра подходит ко мне, но я тоже почему-то не слышу её шагов, я сосредоточена на своём.
Я только ощущаю, как она протирает спиртом мою кожу на плече, как она закатывает рукав на моём халате, я тоже не вижу. Это случается, когда у человека истерика, так, во всяком случае, рассказывали больные с подобным диагнозом. Я только чувствую боль от укола и то, как меня подхватывают за руки люди в белых халатах и отводят в мою комнату или в процедурную под наблюдение медперсонала. Нет, скорее всего, в комнату, потому что мне бросаются в глаза три кровати, а в процедурной лишь две кушетки, слегка накрытые простынями, и пахнет там постоянно йодом и лекарствами.
На меня смотрит чьё-то лицо. Конечно же, это Антонина Михайловна, правда, я вижу её довольно смутно и расплывчато. Хотя нет, это кто-то другой. Антонина Михайловна улыбнулась бы мне, обязательно бы улыбнулась, но она как будто не делает этого. Это вовсе не она. Далее проваливаюсь куда-то, словно в бездну, в пропасть, не имеющую никаких граней, ни входов, ни выходов, всё пусто. Кругом пусто….
Когда ты долго хохочешь, тебе это нравится, и ты приходишь к выводу, что провёл бы в этом хохоте оставшуюся жизнь, и только правила приличия мешают тебе. Ты должен ходить всегда с серьёзным лицом, чуточку циничным, чуточку заинтересованным, но лишь чуточку, не больше, иначе тебя могут просто не понять. Идёшь, улыбаясь всему свету, значит, ты не вполне здоров и начинаешь вызывать интерес, подошёл к одиноко стоящему деревцу, обнял его, погладил по уже облезшей коре, и тебя готовы записать «в странные». Ты должен всегда оглядываться, чтобы не дай бог расслабиться при ком-то и довериться незнакомому человеку, иначе твоими слабостями непременно воспользуются.
Я хохочу громко, громко, теперь мне уже всё равно, они уже записали меня «в больные», именно это мешает жить мне среди людей. Общество привыкло выталкивать из своего нутра всё непонятное. И ты вытолкнут из жизни, выставлен за дверь и всегда ожидаешь одного, в один прекрасный день тебе укажут на порог вполне прилично и цивилизованно. У тебя разовьётся депрессия, в итоге ты возненавидишь себя за свои странности и непохожесть на мир двуногих. Тебе бы гордиться этим, да, гордиться, но ты убиваешься, потому что не можешь найти опору, все отворачиваются от тебя.
Впереди мелькают какие-то незнакомые силуэты, они тебя не любят, и ты хочешь вырваться от них, но не можешь. Руки твои в оковах. Ты хочешь освободиться от них, но не можешь. Постепенно эти оковы стягиваются на твоих руках, ногах и шее. Тебе больно, очень больно. Ты кричишь, но тебя никто не слышит. Нет, ты не один, эти силуэты всё время здесь. Ты понимаешь, лучше бы их вообще не было рядом, тогда ты почувствовал бы себя свободным, и оковы спали бы сами.
На уровне интуиции ты прекрасно понимаешь, что это всего лишь твой сон, причём насильственный, вызванный уколом, вот почему тебе так жутко в этом сне. Вот почему тебе так хочется кричать, но ты хохочешь, потому что просто обессилен.
Сквозь сон прорезаются серые внимательные умные глаза Витьки, ты ещё больше хочешь вырваться из замкнутого пространства, но глаза всегда с тобой, будто они в тебе.
– Не хочу! – кричишь ты, – Я не хочу!
Слышишь спокойный шёпот, исходящий от этих серых живых глаз:
– Не поддавайся им.
Бубнишь это про себя, как заученную молитву, надеясь, что она спасёт тебя, и ужасы развеются. Они становятся ещё ярче, ещё конкретнее, ведь теперь в силуэтах, сначала таких бесформенных, ты различаешь глаза. Они мёртвые, эти глаза по сравнению с Витькиными. А твои? Ты не видишь в них ничего кроме чёрной Бездны, как у покойника, который решил добровольно лечь в могилу. Твои глаза похожи на куски мглы.
Да, только теперь слышишь ты вновь этот хохот, но исходит он не от тебя, а от силуэтов. Ты затыкаешь уши. Всё стихает, однако затем возобновляется с ещё большей силой, как испорченная пластинка.
– Не хочу! Не хочу! Оставьте меня в покое! Вы все давно мертвецы и убиваете живых, калечите их души своими рамками, которые установили сами себе.
Не поддавайся им!
…Пробуждение оказывается таким же болезненным, как и сам сон, болят мышцы, болит голова и даже глаза кажутся напряжёнными. Ты не можешь с собой ничего поделать, потому что единственным твоим желанием является, чтобы эта дикая боль исчезла. А ещё тебе хочется кричать, просто выть, как дикий зверь, и ты не делаешь этого только потому, что тебе могут вколоть вторую порцию аминазина или каких-нибудь антидепрессантов, к которым ты жуть как боишься привыкнуть. Твоя личность медленно разрушается, и ты ничего не в силах изменить.
Я проверяю свои ощущения. Во рту сухость, немного тошнит и ещё слабость. Кажется, что ноги и руки вовсе не твои, и ты просто вынуждена их носить, словно они приставлены к тебе. Ты уже надумала, что твоё «лечение» в санатории давно закончилось, но когда ты вновь открываешь глаза, возвращаясь из далёких неведомых тебе закоулков твоих видений, перед тобой открывается всё тот же мир казённых стен.
Я тяжело вздыхаю, понимаю, что отныне придётся начинать сначала привыкать ко всему этому, а жаль. Я успела отвыкнуть хоть и слишком рано.
Дверь в комнату Витьки открывает Антон – его сосед. У него тоже шизофрения в стадии ремиссии, правда, Антон – совсем другой человек. У него тёмные волосы, немного мечтательные зелёные глаза такие же, как у Витьки, но не грустные. Увидев меня на пороге, Антон пожимает плечами, но мне кажется, что он понимает, почему я пришла.
Опередив его домыслы, я говорю:
– Мне нужно забрать тетрадь, которую оставил мне Виталий.
Антон молча показывает пальцем в угол на старую деревянную тумбочку.
– Там его вещи, – односложно отвечает он, – Светлана Савельевна запретила что-либо брать.
– Не беспокойся, я возьму только тетрадь. Он мне разрешил.
Последняя фраза была сказана как-то естественно, и мы оба понимали, что умерший человек отныне ничего не решает, но нам было важно согласие Витьки. Она оказалась внизу поверх каких-то книг. Я достала книги, чтобы лучше рассмотреть. Это были Нитше, Кант, Соловьёв, я не могла даже раньше предположить, что Витька зачитывается такой серьёзной литературой, ведь все три относились к философским трактатам.
– Забери их тоже, – услышала я голос Антона.
– Но у Виталия могут быть родственники, – разумно возразила я.
Он махнул рукой:
– Никого у него нет. Во всяком случае, он никому не нужен. На исчезновение этих книг никто не обратит внимание.