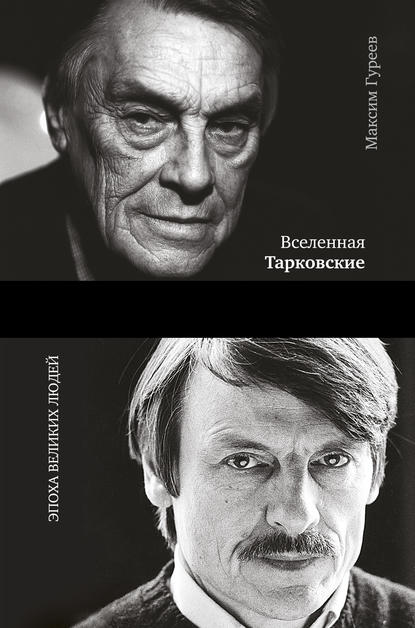Полная версия
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
И вот Иосиф в мундире капитана 3-го ранга с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку поднимается по парадной лестнице магазина на второй этаж, туда, где продаются книги по искусству. Он выбирает альбом фотографий Миши Барышникова и вручает его отцу.
Александру Ивановичу снится, как он смотрит фотографии Барышникова, на которых изображен его сын. Ему нравится работа фотографа, ведь он сам фотограф и прекрасно чувствует руку мастера, но при этом он решительно не понимает, почему на этих карточках его сын такой старый и лысый.
Он резко оборачивается к Иосифу:
– Скажи честно, ты продолжаешь смолить как паровоз?
– Да, отец, – звучит в ответ, – продолжаю.
– Это очень плохо, врачи запретили тебе курить, – лицо отца мрачнеет.
– Да, я знаю, но…
– Нет, Иосиф, дело даже не в том, что ты огорчил меня, и не в том, что ты не выполняешь предписания врачей, а в том, что ты сейчас очень огорчил нашу маму…
Александр Иванович открывает глаза.
Игла уже давно зависла над остановившейся пластинкой «Рождественская оратория» И.-С. Баха.
А ведь этот электрофон, кажется, был приобретен вместо радиоприемника «Филипс», чей удел оказался незавиден…
Из эссе Иосифа Бродского «Трофейное»:
«Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался “филипс” и мог принимать радиостанции всего мира – от Копенгагена до Сурабаи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале. По меркам того времени “филипс” этот был вполне портативным – уютная коричневая вещь 25х35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была закавыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист, в свою очередь, проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось – и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил.
Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или тем более Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, “Голоса Америки” и радио “Свобода” на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по “Голосу Америки” можно было слушать программу “Time for Jazz”, которую вел самым роскошным в мире бас-баритоном Уиллис Коновер.
Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, “филипсу” я обязан своими первыми познаниями в английском и знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Клиффорда Брауна, Сиднея Беше, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки. Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая невидимая рука где-то в России.
Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я пытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер – Нейсе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье – покуда семья существовала».
В 1972 году Иосиф уехал из страны.
В 1983 году умерла Маруся.
Семьи больше нет.
29 апреля 1984 года, сидя на стуле посреди комнаты перед телевизором, от сердечного приступа в возрасте 81 года скончается Александр Израилевич Бродский.
Таким его и обнаружит сосед по коммуналке.
Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:
«Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками. Чего, однако, не произошло. И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать. Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу. Широкая река лежала перед ним, белая и застывшая, как язык континента, скованный немотой, и большой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как железное небо. Если у мальчика были две минуты в запасе, он скатывался на лед и проходил двадцать-тридцать шагов к середине. Все это время он думал о том, что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал сломя голову до самых дверей школы. Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по лестнице в свой класс. Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом Вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею».
Хор неподвижно стоит на ступенях Военно-морского музея (он же Биржа, он же Парфенон) и поет на французском языке (в древнегреческой драме это неподвижное исполнение называется стасим):
Manchester et LiverpoolJe me revois flânant le long des ruesAu milieu de cette fouleParmi ces milliers d’inconnusManchester et LiverpoolJe m’en allais dans tous les coins perdusEn cherchant ce bel amourQue près de toi j’avais connuJe t’aime, je t’aimeQue j’aime ta voixQui me disait:«Je t’aime, je t’aime»Et moi j’y croyais tant et plus…Антифоном звучит голос диктора Центрального телевидения Веры Шебеко:
– По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра в Нечерноземье ожидается 5–7 градусов тепла, в среднем Поволжье плюс 7 – 10, дожди, в Мурманской области и Карелии плюс 6–8, в Ленинграде такая же температура, кратковременный дождь, возможна гроза.
Эписодий Второй
5 марта 1953 года Иосиф проснулся, как всегда, по звонку будильника.
С трудом выбрался из-под одеяла.
Выглянул в окно – темно, тускло горят уличные фонари.
Долго стоял перед рукомойником.
Ковырял пальцем зубной порошок «Экстра». Думал о том, что он похож на пудру, которой пользовалась мать. Зачем-то вымазал им щеки.
В комнате на столе его уже ждал завтрак – яйцо и чай.
Жевал безо всякого удовольствия, давился кипятком.
По радио передавали новости, а потом пел дважды краснознаменный хор имени Александрова.
Со словами «иди уже, а то опоздаешь», мать провожала сына по коридору.
Иосиф выходил на лестничную площадку, дверь захлопывалась за ним, чем тут же и обрезала звуки хорового пения.
Брел мимо Спасо-Преображенского собора.
Здесь, в подвале, по рассказам матери, они прятались во время бомбежки, а его, годовалого, укладывали в свечной ящик, где он спал.
Переходил Литейный в сторону Фонтанки.
На улице почти никого не было.
Сворачивал в Соляной переулок и натыкался взглядом на светящееся в утренней мартовской мгле здание школы, напоминавшее пассажирский четырехпалубный лайнер.
Отец рассказывал сыну, что после войны многие пассажирские пароходы СССР получил по репарации от Германии. Например, самый крупный советский паротурбоход «Советский Союз» был построен в Гамбурге и назывался «Albert Ballin».
Иосиф останавливался на какое-то время, раздумывая, идти ли ему на первый урок. При этом он отчетливо представлял себе красное венозное лицо исторички, секретаря парторганизации школы Лидии Васильевны Лисицыной, которая, поймав на несделанном домашнем задании, начинала истошно орать: «Вон из класса, слабоумный!», а орден Ленина, приколотый у нее на пиджаке (как говорили, самим Ждановым), начинал трястись, будто бы от страха. И это было невыносимо смешно, ведь в школе учили, что Ленин ничего не боится.
Поморщился.
Представил себе, что пассажирский четырехпалубный лайнер издал протяжный гудок как при отплытии и начал выполнять маневр разворота.
Иосиф развернулся и быстро пошел к Фонтанке.
Здесь спустился на лед, под которым плавали невидимые рыбы.
Рыбы зимой живут.Рыбы жуют кислород.Рыбы зимой плывут,Задевая глазами лед.Туда.где глубже.Где море.Рыбы.рыбы.рыбы.Рыбы плывут зимою.Рыбы хотят выплыть.Рыбы плывут без света.Под солнцемзимним и зыбким.Рыбы плывут от смертиВечным путемрыбьим.Рыбы не льют слезы;Упираясь головойв глыбы,В холодной водеМерзнутХолодные глазаРыбы.Рыбывсегда молчаливы…Если бы родители узнали, что он вышел на лед, отец, наверное, убил бы его.
Но так как тут нет ни души, то никто об этом и не узнает.
Только невидимые рыбы, но они, слава Богу, не умеют говорить, они молчаливы.
Время пролетело незаметно, и надо возвращаться в школу, ко второму уроку.
Иосиф уже придумал, что ответить на обвинения в прогуле занятий – сломался будильник, а родители рано ушли на работу.
Однако уже в вестибюле он почувствовал что-то неладное. Особенно это стало очевидным, когда в коридоре Иосиф наткнулся на Лисицыну. Приготовился объясняться, выслушивать ругань в свой адрес, но она вместо того, чтобы орать за опоздание, сдавленно бросила ему: «Бродский, немедленно поднимайся в актовый зал».
В глазах у нее стоят слезы.
А ведь никогда и не думал, что она умеет плакать!
Актовый зал был набит битком.
Такого Иосиф еще никогда не видел.
Что-то немыслимо гнетущее, замогильное висело в воздухе.
Терпко пахло навощенным паркетом, табаком и потом.
Лисицына медленно поднялась на сцену и страшным гробовым голосом выдавила из себя:
– На колени!
По залу разнесся гул недоумения.
Это мать рассказывала, что в Спасо-Преображенском соборе люди иногда встают на колени, когда молятся, а раньше ставили на горох в качестве наказания.
Гул недоумения накатывает, но тут же и затихает, словно натыкается на невидимую стену.
– Я сказала – на колени! – срывается на пронзительный бабский визг историчка, лицо ее перекашивает судорога, уже при одном виде которой все как подкошенные валятся на пол – ученики, учителя, уборщицы, безногий сторож-инвалид дядя Миша, у которого этих коленей и нет, а есть протезы.
– Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!
И все начинают плакать под «Marche funebre» Шопена, который уже включил школьный радист Галимзянов.
Из эссе Иосифа Бродского «Размышления об исчадии ада»:
«И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка – сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».
Когда Иосиф вернулся домой, то обнаружил, что в коммунальной квартире, где он жил с родителями, все тоже рыдают.
Плакала и мать.
Было что-то сюрреалистическое в этом безутешном плаче, в этом настоящем вое с заламыванием рук, с возгласами «увы мне!», в этом массовом психозе, который так напоминал хор из Пролога трагедии Еврипида «Медея»:
Снова слышен тот стон, безутешный плач.Не удержать боль, хоть за стену прячь.То с остывшего ложа, где бред горяч,шлет проклятия мужу Колхиды дочьи к Фемиде взывает, увлекшей дочьее из дому, чтоб, говорят, помочьмореходам вернуться, спустя года,к тем, кто ждал их там, как ее – беда,к берегам Эллады родной – туда,где пучина гонит свой вал крутой,и предела нет у пучины той.Только отец лежал на кровати и с невозмутимым видом перелистывал «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Альбертовича Куна. Отец увлекался древностью, находя ее возвышенной, благородной, почти идеальной и достойной всяческого подражания.
Заметив сына, он подмигнул ему и загадочно улыбнулся.
Нет, Александр Иванович никогда не потакал своему сыну, видел в нем разгильдяя и бездельника, был с ним строг и требователен, опять же, не чурался и телесных наказаний, а в гневе бывал страшен, но при этом между ними существовала какая-то таинственная, недоступная для понимания чужих связь, взаимопонимание, которое никогда не выпячивалось, дружба, которая как будто бы и скрывалась от постороннего докучливого взора.
Так, однажды, когда вопрос об отчислении Иосифа из школы был практически решен, Бродского-старшего вызвали на педсовет, чтобы поставить его в известность и высказать ему все о его непутевом сыне. Выслушав неистовых критиков, Александр Иванович встал и неожиданно для всех принялся горячо защищать своего мальчика. Потрясение педагогов было столь велико, что они так и не смогли ничего возразить капитану 3-го ранга. Иосиф был оставлен в школе.
С 1947 по 1955 год он поменял пять школ.
Спустя годы Иосиф Бродский скажет: «Я бросил школу в возрасте пятнадцати лет. Это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Сделать это было трудно из-за родителей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. И вот однажды без всякой видимой причины я встал среди урока и мелодраматически удалился. Это был инстинктивный поступок…»
Тогда удалился на Обводный по Нарвскому проспекту и пошел в сторону Балтийского вокзала.
При этом то и дело подходил к парапету, перевешивался через него и смотрел на воду.
Плывет в глазах холодный вечер,дрожат снежинки на вагоне,морозный ветер, бледный ветеробтянет красные ладони,и льется мед огней вечерних,и пахнет сладкою халвою,ночной пирог несет сочельникнад головою.Шел вдоль Обводного канала и снова думал про рыб, которые плывут в глубине и сейчас, вероятно, смотрят на него.
Вот они как-то пережили блокаду, войну, зиму и теперь перемещаются в поисках корма, изредка поднимая глаза вверх (исключительно любопытства ради). Старо-Петергофский, Розенштейна, Шкапина давали о себе знать пронзительными сквозняками, что вырывались из уличных проемов, более напоминавших ущелья, в которых жили первобытные люди.
Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:
«Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный – и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон… За этими величественными выщербленными фасадами – среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) – слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет – все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон».
На Балтийском вокзале зашел в буфет.
Путевые обходчики здесь пили пиво, громко разговаривали, смеялись. Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом. Иосиф посмотрел на нее и тут же вспомнил свою мать в переднике, ее раскрасневшееся лицо, чуть запотевшие очки, ее коротко стриженные, крашенные хной седые волосы и блестящую от пота верхнюю губу, когда она на кухне отгоняет его от плиты: «Отойди! Что за нетерпение!» А потом она приносила угощения в комнату, где они с отцом уже сидели за столом и держали в руках вилки с маркировкой «нерж».
В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.
После первой блокадной зимы, 21 апреля 1942 года, Марии Моисеевне Вольперт вместе с сыном Иосифом и родителями (бабушкой и дедушкой Иосифа) удалось выехать из Ленинграда в эвакуацию в город Череповец Вологодской области.
Сначала они поселились в деревянном бараке на улице Ленина, а затем перебрались в дом Басалаевых в Новом переулке, что находился на окраине города близ Северного шоссе.
Жизнь в бараке Иосиф Бродский впоследствии описал следующим образом: «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку… три или четыре белых ступеньки ведут из прихожей на кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку – птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка, мама и я. Моя кроватка стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив – мамина кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу».
Вот из этого окошка и был виден город, стоящий при впадении реки Ягорбы в реку Шексну близ Рыбинского водохранилища.
Во время войны в Череповце находился штаб 286-ой стрелковой дивизии, части Вологодско-Череповецкого округа ПВО, завод по ремонту авиационных двигателей на территории бывшего Воскресенского монастыря, механический завод «Красная звезда», а также лагерь ОГПУ НКВД № 158 для военнопленных и освобожденных из немецкого плена военнослужащих Красной армии, куда в должности секретаря-переводчика устроилась работать Мария Моисеевна.
В своих знаменитых «Диалогах с Бродским» Соломон Волков приводит следующие воспоминания поэта о том времени: «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: “Мама, а скоро мы будем тонуть?”.
Переплывали Шексну как Стикс.
Старик, чьего лица было не разглядеть, кутался в плащ и напоминал Харона.
А на причале уже стоял хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА и как в античной трагедии пел попеременно.
Первое полухорие:
Как тюремный засовразрешается звоном от бремени,от калмыцких усовнад улыбкой прошедшего времени,так в ночной темноте,обнажая надежды беззубие,по версте, по верстеотступает любовь от безумия.Второе полухорие:
Через гордый язык,хоронясь от законности с тщанием,от сердечных музыкпробираются память с молчаниемв мой последний пенат– то ль слезинка, то ль веточка вербная, —и тебе не понять,да и мне не расслышать, наверное,то ли вправду звенит тишина,как на Стиксе уключина.То ли песня навзрыд сложенаи посмертно заучена.Эпическое, торжественное зрелище на фоне низкого свинцового неба.
Вся жизнь в Череповце военной поры вращалась вокруг железнодорожного вокзала, через который транзитом с северо-запада на Котлас и Воркуту шли эвакопоезда, а с востока на запад – военные эшелоны. К 1941 году после затопления Рыбинского водохранилища часть города ушла под воду, в результате чего старые постройки почти не сохранились. Под нужды фронта Череповец отстраивался, по сути уже находясь на военном положении. Вагоноремонтные мастерские, отстойники паровозов, одноколейки, протянутые к лагпунктам и судоремонтному заводу, лесопилки, мастерские, склады, постоянный запах угля, солярки и креозота, надписи на деревянных лабазах, домах и заборах, сделанные белой краской: «кипяток», «сборный пункт», «госпиталь», «бомбоубежище», «запретная зона», «штаб», «вход воспрещен», «стой, стреляют», нескончаемый поток эвакуированных, раненых, заключенных. Для маленького человека, который уже научился читать, – это был истинный Вавилон.
Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского:
«Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос – в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к Аду. Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретенной – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности».
Вот Мария Моисеевна везет на саночках маленького Иосифа мимо бывшего Воскресенского собора, где сейчас работает фабрика по ремонту авиационных двигателей. Вечернее небо подсвечивают прожектора части ПВО, что расположена на восточном выезде из Череповца на Вологду.
Все это скорее напоминает некое масштабное и непостижимое действо, частью которого стали обитатели Череповца, а также попавшие сюда эвакуированные, раненные и заключенные.
«Язык не поспевает за мыслью», и потому время обретает черты абсолютно условные, ничто отныне не является абсолютом, и особенно это становится очевидно во время войны, когда жизнь может оборваться сейчас, завтра, послезавтра, или, напротив, не закончиться никогда, превратившись в бессмертие в виде мемориальных досок на стенах домов, памятников, аляповатых портретов и торжественных митингов, перегруженных бессмысленными речами. Почему бессмысленными? Да потому что «язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении»! О каком тут смысле можно вообще говорить!
И вот когда почва окончательно уходит из-под ног, начинается миф – например, миф о дружной жизни в коммунальных квартирах, миф о тайном (разумеется, в те-то годы) богоискательстве, миф о довольстве и в то же время о непроходящем ужасе ожидания ареста и расстрела, наконец, миф о добром Сталине или, напротив, о кровожадном Сталине.