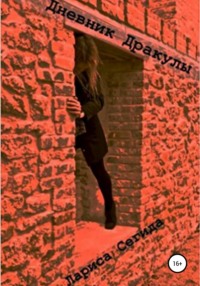Полная версия
4 новеллы о любви
Моя 96-летняя жизнь… Тропинка из маминого живота в глубокую зрелость, где уже не бывает мам… Когда я была подростком, я смотрела на свою полувековую бабушку как на старушку. А сегодня мне почти в два раза больше, чем было ей. Теперь смотрю на ее фото, и она кажется мне девушкой в свои 50. Все относительно. Юность и старость. Относительная юность и относительная старость. С какого холма смотреть на жизнь. Что старое для 15-летних – юное для 90-летних.
Неласковое слово “старость”. Хлесткое, жесткое, жестокое. Как приговор. Вычеркивает человека уже своим первым слогом из мира значимого в мир ненужного. Синоним нежеланной законченности, рассыпанности, расклеенности, размазанности, разбитости, разряженности, истощенности, неможести, нехотения, нежелания, ненадобности, нежизни. Не жизни… В старости нет жизни. В зрелости есть, в старости – нет. Есть только она, старость, как гидра, высосавшая жизнь до капли. Тухлое прозябание. Без свежести, новизны, цвета, света, стремления, вдохновения, влечения, хотения. Старость не хочет ничего. Скрипучий механизм бесцветной повторяемости. Старость ест по привычке, не ощущая ни вкуса, ни запаха съедаемого. Одевается по привычке, в блеклое, изношенное, бесформенное. Удобное. Удобная повторяемость до мозолей в мозге. Неслышность и невидность. Социальная отчужденность, фарисейски вежливое отторжение, неявная изоляция и покорная самоизоляция, механически раздувающая меха полумертвость.
Поворошу корни слова “старость” – как нещадно его смысл перевернуло время! “Старость” – от древнего корня ста– “становиться”. Расти, развиваться, совершенствоваться, быть в движении, процессе, становлении. Старый буквально – “ставший”, сформировавшийся, состоявшийся, достигший апогея. -Р- после корня ста – своеобразный мостик-хвостик, некое преодоление отметки, рубежа, переход из одного состояния в качественно иное. Не для того ли дана нам жизнь как не для становления? Но как хитро один и тот же корень ста превращается в противоположные по значимости и весу слова: ста-новиться, ста-рейшина, ста-ринный, на одной чаше весов, наполненной уважением, признанием, любовью, и ста-рый – на другой, пугающей, избегаемой и где-то даже пассивно презираемой. Старинную машину ждут выставки и восторженные облизывания коллекционеров, а машину старую – свалка. Мебель старая вызывает образы клопов, невыветриваемую вонь карбофоса и инстинктивное желание нестись подальше от ее уродливых форм и запахов, ставших в сознании живущих антиформами и антизапахами. Старинная же мебель, пусть ее возраст исчисляется и тысячами лет, сопряжена в сознании или подсознании с искусством, вкусом, художниками, меценатами, тайной времени и исчезнувших в нем пространств. Так и люди. “Старые”, значит, ненужные, изжившие, маразматики, больные и слабые, и лучше, если с глаз долой. Старинными людей не назовешь, но в свои 70 или 80 они наверняка скорее предпочли бы слова “ставшие”, “состоявшиеся”, “зрелые” или “старшие” по отношению к себе, нежели “старые”, по крайней мере, те, кто всю свою жизнь создавал себя, строил, оттачивал, отшлифовывал, не плыл по течению, не уничтожал себя собственной дуростью, не хоронил себя, начиная с 50-ти, и тогда сразу за такой полувековой зрелостью выстроятся эпитеты “опытный”, “знающий”, “сформировавшийся”, “самодостаточный” и “мудрый”. В зрелых плодах – вкус и жизнь, а в старых – гниль и смерть.
Мне 96, и я не принимаю старость. Как изжитость. Как слабоумие и слаботелие. Как бессмысленность и бесцельность. Даже сейчас, когда я перестала летать через океан два раза в год, я защищаю себя от ее социальных атак. С естественными атаками еще справляюсь: все 96 лет моего опыта, дурного и хорошего, давят, словно несу их на голове, как африканская женщина свой неподъемный для европейки груз; моя почти вековая природа бьет меня, хлещет, порет, обращает в лень и боль, но я не сдаюсь, не смиряюсь, не убегаю от своего возраста, а бегу к нему навстречу, обнимаю его, восхищаюсь им и в этом принятии непринимаемого тренирую и отшлифовываю свое хрупкое тело и от лени, и от боли. Хожу с ходунком за дверью квартиры для баланса, суечусь внутри нее, размахиваю руками-ногами во время зарядки, общаюсь с миром через компьютер, пусть и с крупным шрифтом из-за затухающих глаз. Социальные же нападки старости – похитрее; они скрытные и неотвратимые и запихивают тех, кому за 50, в когорту “старых”, подданных Ее Уродство Старости, прислужницы смерти. Беспристрастно. Бесчувственно. Методично. Кто-то присоединяется к этой когорте смиренно. А я размахиваю копьем, как Дон Кихот, сумасшедшее и вечное дитя Мечты и Веры, чтобы не попасть в жернова этой тихой социальной мельницы. Я не приемлю старость. Старости не как становление, а как разрушение. Потому что она – как плесень. Как затхлость. Как душность. Как застой. Как не-чем-дышать-и-незачем. Как знак “стоп” посреди нигде и по пути в никуда. Кто-то скажет, что таких вот “зрелых”, “ставших”, “состоявшихся”, “мудрых” – единицы среди “старых” отживчиков, маразматиков, телесных развалин, как приговор ожидающих смерти. Возможно, этот кто-то будет прав, потому что многие после 50-ти почему-то резко сдуваются, не пестуют свой дух, способный творить, а смиряются, словно сливаются, со своей исчезающей в слоях жира и потерявшей гибкость фигурой, со своей все больше атакующей ленью и безразличием, с коварной слабостью, все чаще атакующей болезненностью, переходящей в немощность, как естественным ходом событий и, самое печальное – сдаются так рано! Словно влюбляются в состояние “болеть, заедать боль таблетками, страдать, ныть, вызывать жалость к себе и жалеть самого себя”. Нет, они не “словно” влюбляются, а кажется, что они действительно такое свое состояние любят, иначе бы не сваливались в него в свои – всего лишь! – 50.
А мне 96. Все еще кручусь, как пропеллер, в своей квартирке на пятнадцатом этаже. Полуслепая. Полуглухая. С половиной родных зубов во рту и с половиной искусственных. Но не полуживая. Живая на все свои девяносто шесть! И дело не в генах, на что обычно уповают, а в неиссякаемой воле к жизни, которую уважает мадам смерть и потому не приходит раньше срока. У нее достаточно работы с отправкой в иное всех слабых, уставших, сдувшихся, чтобы хотеть иметь дело с сильными. Она не ковыряется и не выбирает. Ей хватает тех, кто ее ждут, неосознанно зовут и копают свою яму ножом и вилкой и всеми своими привычками, от которых отчего-то в миг соглашаются отказаться в момент докторского вердикта. Такие взывают с мольбой: “Доктор! Спасите! Сделаю все, что скажете! Брошу курить, пить, жрать и даже жить!”… Нелепо, как жалко и нелепо просить помощи за ошибки своей жизни у другого. Пусть и доктора. Дурная голова, заставившая делать тело то, что разрушило, развалило, раздербанило его на самом пике жизни, в самом акме, посреди дороги “столетие”.
А я не нужна смерти. Даже в свои цифры-перевертыши. В мои сегодняшние 96. Она же устанет от моей энергии, моей вечной борьбы за жизнь! Она навещала меня однажды, в пору моей молодости, но молча ушла, отчалила, отвалила, оставив мне всю мою долгую дорогу любви. Когда во время войны я осталась одна, мать малолетнего сына немецкого солдата, вернувшегося в свою Германию вместе с уходом оккупантов из Франции, моей родины, не любимая, не жена, не созревшая мать, презираемая родными и соотечественниками, с ноющей язвой общественного унижения и морального падения, со своей любовью-огрызком, я дала себе клятву выжить, пережить все и жить, восстать среди руин затоптанной, забитой, поруганной, истерзанной, разорванной, распятой Европы и вернуть себя самой себе, несмотря на все нормы, правила, ожидания и приличия. Я нашла его через 56 лет. Пятьдесят шесть лет! Кто-то столько и не живет, а я сумела прожить четыре жизни – до него, без него, с ним и после него. Когда мы вновь увиделись, он был женат, с двумя взрослыми детьми и четырьмя внуками. Ему было 80, мне 76, а нашему сыну 57. Жена его была тяжело больна, и когда через несколько месяцев она скончалась, он сделал мне предложение. Мы поженились, и из оставшихся нам 14-ти лет мы жили вместе шесть месяцев в году в Германии, что разрешали нам визовые законы наших стран. Я пережила его, скончавшегося шесть лет назад. Когда он умер, я не упала духом. Напротив, все мое маленькое существо восторжествовало, потому что моя любовь-огрызок превратился в дерево и своими цветами и плодами победил всех: войну, обглодавшую мою любовь, его, сдавшегося обстоятельствам войны, и меня саму, упавшую и вставшую. Мое становление было долгим – как личности, матери, любимой и жены. Поэтому я – не старая. Я – ставшая! Ставшая той, какая я есть сегодня в свои 96… Он плыл по течению жизни, когда я гребла против, поэтому мы и встретились снова, пусть даже и на закате нашего земного пребывания… Теперь и это в прошлом. Только мой 96-й день рождения, сейчас, в этот самый момент, в этом живом воздухе настоящего!
***
До него…
Я, венгерка по отцу, француженка по матери, родилась под Парижем в 1924 году. Тем самым Парижем, воспетым и вдохновенным, обмусоленным писателями и режиссерами, облюбованным и загаженным туристами и беженцами за евросчастьем. Я – младшая из четырех детей. Помню родителей, нарядных и благоухающих духами, уезжающих в Парижскую оперу и оставляющих нам четыре дюжины пончиков, чтобы мы не скучали. Жареные в масле шарики исчезали в наших желудках быстрее, чем возвращались домой восторженные родители, еще сильнее пахнущие ароматами уже всех дам и джентльменов, посетивших в тот вечер оперу. Иногда мама добавляла в пончики изюм, и тогда наше блаженство было небесным. Мне казалось, что я ем облака с птичками. Опера длилась три часа. Даже перенасыщенная сказочно вкусными мамиными творениями, я плакала, полагая, что родители никогда не вернутся домой. Братья успокаивали меня, уверяя, что после оперы те могли зайти в ресторанчик на рюмочку коньяка, хотя они совсем не пили, не считая больших семейных праздников.
Мой красивый детский мир растаял в тот день, когда мне вместе с сестрой и двумя братьями нужно было сказать “прощай” нашей маме и поцеловать ее в последний раз. Она умерла от туберкулеза в возрасте 27 лет. Ее слова, адресованные мне, передала мне моя сестра, когда я подросла: “Моя малышка не будет помнить меня…”. Но я помню запах ее кожи и ее теплые, сладко пахнущие кудри, щекочущие мой нос, когда она прижимала меня к себе. На единственной фотографии, что досталась мне, она такая же, как в моем воображении…
Нас троих, младших, власти города отправили в Валлуар, в детский дом-профилакторий для детей, чьи родители пострадали от туберкулеза, разрешив только старшей сестре остаться с отцом, потому что он не мог совмещать работу с заботой о четырех детях. По ее словам, вечерами он играл на скрипке в опустевшем доме, а она беззвучно, чтобы не усугубить его состояние, плакала в своей кровати от бездонного горя. Бывает ли у горя дно? Наверное, да, только проявляется оно, когда время иссушает боль… Через четыре года нас отпустили домой. Отец к тому времени встретил женщину, которая смогла заменить нам маму. Она оказалась не сварливой фурией как в сказках, а доброй, заботливой, теплой, и мы как-то естественно, без усилий сразу назвали ее “мама”.
Немцы оккупировали Францию в мае 1940 года, когда мне было 15, и все свелось к минимуму для нас: привычная еда, фрукты, кофе, масло, соль, сахар. Они забирали у французских фермеров почти все и отправляли продовольствие в Германию, своей нации, своим родителям, женам и детям, оставляя нам, французам, то обокраденное “сегодня”, которое мы имели, и нам приходилось радоваться тем крохам. Мы были живы, и это стало самой главной ценностью каждого дня. Я не могу даже вспомнить, сколько раз в день я говорила своей матери, что я голодная. Она лишь спокойно повторяла: “Возьми денег в копилке и купи, что хочешь”. Но копилка была пуста. Все, что я могла в ней найти, – пустоту. В этом заключался материн трюк безысходности. Но инстинкт выживания вымуштровал мою психику. Я не устраивала детских истерик, увидев пустое содержание копилки, а молча училась понимать взрослых, родителей, соседей, горожан, все то время, в которое я почему-то пришла в этот мир.
Изношенные подошвы моих ботинок родители заменяли у сапожников на тяжелые деревянные. Каучука не было. Если я находила довоенные остатки ткани в закромах дома, мать выкраивала и шила для меня платье из разных лоскутков, что делало меня несказанно счастливой. Счастье было чрезвычайно хрупким и простым во время войны. Оно могло вместиться во что-то очень маленькое, просто теплое или просто съедобное. Я помню необычайно холодную, ветреную и снежную зиму первого года войны. Мать покрасила покрывало в черный и выкроила из него теплые штаны для меня. Так как мы жили недалеко от моря, в обычные зимы снег никогда не залеживался из-за соленого воздуха, но не той зимой! Наш Ле-Портель буквально утонул в снегу, словно мы жили в Сибири. Казалось, природа хочет забинтовать все то людское сумасшествие, которое повергло Европу в кромешный мрак с его культом тотального убийства, национального рабства и культурного насилия. Я ходила пешком шесть километров до школы за знаниями девятого класса в неведении, вернусь ли домой и увижу ли родителей после занятий из-за постоянных бомбежек. Бомбы уничтожили “завтра”, потому что могли убить тебя в любой момент. У нас было только “сегодня”. О прошлом мы не вспоминали. Желание выжить именно сейчас вытеснило меланхолию по тому, что было вчера. И мы ничего не боялись, так как буквально жили этим “сегодня”. Не хватало сил и энергии зависать во “вчера”, не было и “завтра”, о неприходе которого мы могли бы жалеть. Выживание – пронзительная штука, на которую тело реагирует не подлежащим рациональному объяснению способом. Выживает сильнейший духом, и тело знает это интуитивно, поэтому не реагирует ни на что, чтобы сохранить природой данный потенциал “выжить”. Это как болевой шок, когда ее, боли, словно и нет. Ни травмы, ни боли. Одна пустота пребывания. Пребывания в данности. В том пространстве и времени, которое есть. Не было, не будет, а есть. Когда читаешь о страшных событиях в прошлом, думаешь, нет, это невозможно пережить. Но когда попадаешь в них сам, то, оказывается, все возможно. Жизнь делает тебя сильнее и глубже, чем ты есть в своих представлениях о ней.
Моя юность ликовала, несмотря на войну. Найти друга, интересного юношу, в нашем рыбацком местечке, было невозможно. Помимо лавочников его населяли в основном рыбаки, и один из них, молодой и симпатичный, напрашивался в мои друзья, но мать повторяла мне: “Ты слишком хороша, воспитана и образована для него и его окружения, чтобы застрять в нем пожизненно.” К сожалению или счастью, молодость всегда влюбляется не в тех…
***
С ним и без него…
Когда в наш городок пришли немецкие войска, золотоволосые, пышущие здоровьем, выправкой, силой, красотой и молодостью солдаты, нам, француженкам, запрещалось заводить знакомства с ними, а тем более – мечтать о замужестве. Ходили слухи, что Гитлер проехал по Парижу и счел парижанок недостаточно хорошенькими, чтобы позволить своим солдатам жениться на них, но разве юную страсть обуздаешь? Что нам было до политических распрей и войн, когда сердца и тела взрывало от эмоций и влечений к неизвестному и запретному еще более? Мы встречались с немецкими юношами секретно как от родителей, так и от соседей, и это лишь придавало таким любовным отношениям больше перехватывающего дыхание возбуждения и фонтанирующего восторга.
Во время оккупации кинотеатры были закрыты для французов, но открыты для немецких военных. Лишь однажды нам разрешили проникнуть в магический храм кино во время показа фильма-пропаганды “Kraft Durch Freude”/“La Force Par La Joie” (“Сила через радость”). Немцы сидели по левую сторону зрительного зала, французы – справа. Меня с Эггертом разделял только проход. Он смотрел на меня, а не на экран – я чувствовала боковым зрением. Я влюбилась в него с первого взгляда, вернее, “с бокового взгляда”.
Он дождался меня на улице, спросил, где я живу. Я сказала: “Голубое кафе”. То был ресторан, которым владела и управляла наша семья. Эггерт пришел на следующий день, вечером, заказал пиво. Я не уходила из зала и с видимой занятостью задавала матери какие-то бессмысленные вопросы с искрящимися глазами и пунцовыми щеками. С первой минуты она все поняла, но не сказала ни слова. Я старалась держать наши отношения в тайне от всех, бегала на встречи с моим немецким блондином украдкой, но эта скрытность была напрасной. Когда однажды утром я вышла из туалета бледная после рвоты, моя мать отвезла меня в госпиталь. “Два месяца беременности, деточка!” – отрапортовала медсестра, а мать лишь выдохнула: “Что скажем отцу?”
Мой благородный отец, всегда мечтающий стать пастором, отлупил меня, словно за всех непослушных девочек нашего городка, ремнем и словами, каких я даже не слышала и значение коих не знала. Когда я потеряла сознание, мать бросила: “Достаточно, оставь ее.” Моя сестра, на тот момент уже школьная учительница в соседнем городке Аррас, была напугана новостью о моей беременности, так как это грозило ей потерей работы, узнай в ее школе, что ее сестра ждет ребенка от немецкого оккупанта. В том состоянии непонимания и потерянности я написала брату в Париж, где он изучал музыку. Он примчался на поезде, заплатив штраф немцам, так как у него не было пропуска для передвижения по Франции, и отчеканил отцу, что заберет меня в столицу, если тот еще раз поднимет на меня руку. Отец сдулся, но сделал все, чтобы мой позор не стал публичным, пустив среди соседей слух, что меня нужно отправить в горы для профилактического лечения от возможного туберкулеза. Эггерт принял новость о моей беременности, словно речь шла о чем-то обычном, не выходящем за рамки немецкого “орднунга”. Не услышав его решения “да” или “нет”, я искала ответ в его голубых, “истинно арийских” глазах, но напрасно. Его служебный долг и война волновали его более.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.