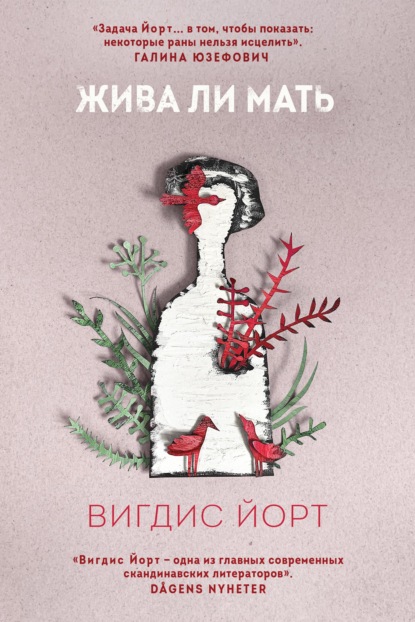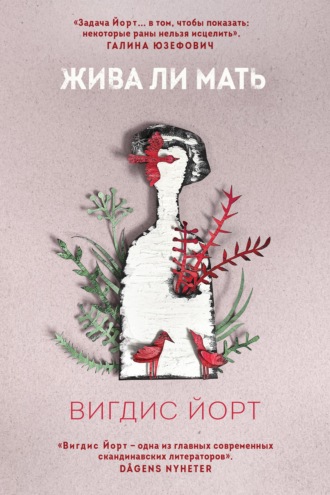
Полная версия
Жива ли мать
В доме по соседству с тем, где я выросла, жила пожилая женщина, вдова по имени фру Бенсен. Дети ее боялись: когда мы играли, она шикала на нас, если облокачивались на ее забор, бранилась, а стоило нам ухватить ягоду черешни с ветки, склонившейся над тротуаром, как фру Бенсен грозила полицией. Как впоследствии выяснилось, мать, в те времена еще молодая, тоже боялась фру Бенсен. Это одно из самых ранних моих воспоминаний, и по-прежнему болезненное. Мне было лет семь. Я играла в мячик – отбивала его о дверь гаража и ловила – и случайно бросила так высоко, что он упал в сад фру Бенсен. В окнах я никого не увидела, поэтому забежала в сад и достала мячик из клумбы возле веранды, после чего вернулась обратно и возобновила игру, но тут дверь распахнулась, фру Бенсен вышла из дома и направилась к воротам, а оттуда – прямо ко мне. Вцепившись мне в руку, она потащила меня к двери нашего дома и позвонила в звонок. Открывшая дверь мать тотчас же побледнела. Фру Бенсен обругала ее, мол, мать толком не воспитала своего ребенка, то есть меня, а ребенок этот незаконно залез в ее сад и помял пионы. Мать молчала. Защиты я от нее и не ждала – скорее боялась, что она меня тоже отругает, но надеялась, что она хотя бы попросит меня рассказать о случившемся. Однако мать не сделала ни того ни другого – мать молча, словно ребенок, стояла перед фру Бенсен, а когда та ушла, мать бессильно опустилась на стул. Ноги у нее дрожали. Безмолвные губы матери – неужели я и впрямь это видела? Мать вовсе не такая сильная, даже несмотря на то, что во мне ее власть и пустила корни? Значит, в определенный момент она стряхнула страх и молчаливость, сделавшись словоохотливой и общительной? Когда же это произошло?
Но возможно, после смерти отца боязливость и немногословие вернулись к ней и поэтому она не ответила на мой звонок – она боится меня? Телефон звонит, и от мысли, что это, возможно, я, у матери сдавливает грудь. Мать вспоминает собственную жизнь – говорят, с пожилыми людьми такое случается, в ее памяти появляется мой образ, и сердце колотится от страха. Мать видит газетную статью о выставке-ретроспективе, и кровь у нее в венах леденеет. Страх подстегивает человеческую фантазию, в мое отсутствие мать выдумывает меня, причем в ее представлениях я намного хуже, чем на самом деле. Но возможно, ее гнев сильнее страха. И вообще я, скорее всего, переоцениваю собственную значимость. То, что она не ответила на мой звонок, вовсе не значит, что я вызываю у нее хоть какие-то эмоции. Мать просто не желает иметь со мной ничего общего. Мать наверняка научилась избегать связанных со мной воспоминаний. Учитывая ситуацию, оно и неудивительно, и тем не менее осознавать это странно. Так сложились наши жизни.
Сегодня четвертое сентября, два часа дня. Из мастерской я вижу небо, сейчас оно совсем синее и очень высокое. Еще я вижу фьорд, сентябрьское море бывает то серым, как сталь, то, как сталь, голубым, от больших кораблей пахнет нефтью. Свесившись с террасы, я вижу внизу огромные клены, едва тронутые желтизной. В пятидесяти километрах от меня живет, дышит мать. Если только она не перебралась на зиму в края потеплее, как поступают многие старики. Впрочем, сейчас холода еще не настали, в открытую дверь на террасу я впускаю солнце, и если у матери есть терраса, а у нее она наверняка есть, то, возможно, через открытую дверь в дом к ней заглядывает то же самое солнце, что и ко мне, солнце желтое и греет всех. Чуть заметная колкость в воздухе напоминает об осени, осень – чудесное время года, осенью начинается учебный год с белыми тетрадными страницами и всем прочим. До ноября мать вряд ли уедет. Скорее всего, сейчас, прямо сию секунду, она планирует поездку, они с подружкой по имени Ригмур сидят за столом в квартире по адресу улица Арне Брюнс гате, дом 22, на кухне, которую мне сложно себе представить, разглядывают блестящие туристические проспекты и предаются мечтам. Мать давно смирилась с утратой дочери. Свою старость она не хочет тратить впустую. Почему же я не могу смириться с утратой матери? Хотя, может, с утратой матери я смирилась и просто не могу принять тот факт, что она смирилась с утратой дочери? Вот только я об этом тридцать лет не вспоминала. Ситуация кажется мне странной оттого, что я снова дома? Сперва было иначе, в первые месяцы, когда меня всецело занимали практические занятия – я распаковывала вещи, выбирала мебель, то и дело встречалась с кураторами, постепенно заново знакомилась с родным городом, он сильно изменился, вырос, и это мне нравилось, однако затем я завершила дела, пора было приниматься за работу, в самом разгаре зимы я сидела на террасе и смотрела на море, на паромы, ранним утром заходящие во фьорд. Вот тогда-то это и началось. Потому что я сама вот-вот вступлю в возраст задумчивости, потому что теперь заглядываю не только вперед, но и назад? Потому что у меня появились внуки и так проявляется моя сентиментальность, неужели мне больше не найти примирения с этим?
Я позвонила матери. Та не сняла трубку.
По мнению Рут, матери не следует со мной разговаривать. Мать не выдержит. Мать уже и так не выдержала случившегося, моего внезапного отъезда, моего порочащего ее ремесла, того, что в тяжелый момент я бросила их, не приехав на отцовские похороны. Мать наконец-то оставила меня позади, и общение со мной способно растравить ее раны. Я это понимаю.
Но когда мой гнев, вызванный тем, что меня заклеймили как паршивую овцу в стаде, перегорел, возможно, материнское разочарование мною тоже выгорело? Но Рут рисковать не берется. Опасность того, что разговор со мной расстроит и обеспокоит мать, все еще велика, и Рут хочет этого избежать. Это понятно, когда мать переживает, заботы ложатся на плечи Рут. Мне кажется, мать часто переживает, однако, возможно, мне просто хочется, чтобы она переживала, чтобы она тосковала по мне и задавалась вопросом, как мне живется, и я проецирую свое желание на нее. Вероятнее всего, так оно и есть, потому что мать всегда обладала умением стряхивать с себя неприятные ощущения и сейчас – я уверена – это умение никуда не делось, потому что хоть я и не общалась с ней последние тридцать лет, зато двадцать с лишним лет до этого я наобщалась с нею предостаточно, и эти годы въелись в меня, пережитого мною со счетов не сбросишь, особенно в ранние годы, когда видна была истинная сущность матери, когда она еще не научилась скрывать ее. Несмотря на то что обе мы за следующие тридцать лет изменились, ошибкой будет предполагать, будто восприятие ребенком собственной матери вследствие этого тоже поменяется. Детские представления о матери способны измениться лишь в том случае, если мать и ребенок постоянно общаются. Благодаря непрерывному общению моя сестра сейчас видит мать совсем не той, что в детстве. Таково преимущество общения – болезненные факторы мало-помалу отступают. Но за это, возможно, тоже надо заплатить. Дорого ли?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.