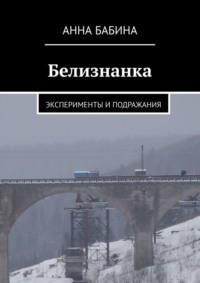Полная версия
Аранхуэсский концерт. Фантасмагория безвременья
Сейчас нет убогих, только «люди с ограниченными возможностями», но в целом мало что изменилось. Калека в переходе, казалось мне, совершенно ничем не был ограничен: он пластался на грязных плитах в любую погоду, вливал в себя вонючий, пронзительный спирт, а после плевался бесконечными зелёными песнями. Случалось, что у него, как у бабушкиного патефона, кончался завод, и он только молчал и раскачивался, раскачивался и молчал.
Я тоже начала раскачиваться, потому что отец молчал, молчал уже слишком долго. Посмотрела на него сбоку, исподтишка, и он показался мне странно похожим на обычных людей, не таким, каким бывал обычно. Другой. На секунду представила, что он ни с того ни с сего предложит мне сладкой ваты – терпеть её не могу, как кому-то может нравиться эта приторная гадость, паутиной липнущая к губам и пальцам, – но если купит, обязательно съем всю, пусть вытошнит потом. И пальцы оближу. Хотя нет, пальцы нельзя. Это некрасиво. Он может разозлиться.
А вдруг мы пойдём на карусель?
Глаза у отца водянистые, белёсые; слава богу, мне не достался этот цвет. У соседки по общаге радужки казались белыми – такие светлые. Страшно. Поначалу я даже спать боялась при ней. Она говорила (врала, конечно), что раньше глаза были синими, но она их выплакала, когда умер отец. Её отец умер, и она плакала по нему. А я, стала бы я?
Стала бы, наверное.
Мама говорит, нельзя о таком – ни думать, ни говорить, а отец ей однажды бросил: чтоб ты сдохла. Не в запале, как случается, а металлически, как «точное время», прямо в глаза.
Стала бы я плакать по отцу?
Когда человек умирает, всегда оказывается, что в нём что-то было. Не обязательно хорошее, просто что-то, отличающее его от других.
Отец не предложил ни сладкой ваты, ни карусели. Достал из внутреннего кармана тоненькую книжку по астрономии. «Наука – школьнику, учпедгиз, 1964 год».
– Почитаем? – спросил.
Будто у меня был выбор.
Отец обожал предисловия и прологи. С большинством книг мы там и оставались – на первых страницах, вступлениях, введениях. Больше всего он любил учебники истории, но всюду застревал в «первобытно-общинном строе». Помятые билеты, открытки, газетные вырезки навсегда засыхали между страницами первых глав, съёживаясь, как цветы. С шестнадцатой страницы на открыточного зайца пялились питекантропы и синантропы, а с семнадцатой на оборот открытки, исписанный идеальным дедовым почерком, гордо глядел кроманьонец. Неандертальца с его короткой шеей и мощными надбровными дугами полагалось, видимо, воображать, и я фантазировала, пока мне не начали сниться кошмары.
Если я когда-нибудь напишу книгу, в ней обязательно будет пролог – исключительно для отца.
В учпедгизовской «науке» предисловия не оказалось. Вместо этого отец закрыл глаза и сказал в пространство:
– Я хотел учиться на историческом, – зло сказал, с нажимом, будто это я его отправила на экономику, и сразу начал читать про звезду Бетельгейзе.
Начиналась книга бодрым, почти художественным рассказом от первого лица. Автор якобы застрял ночью на таежном полустанке, прохлопав последнюю электричку. Вместе с ним на платформе оказались школьники с учительницей, и он, глядя в чернильное небо, рассказывал им о звёздах.
Я представила, что торчу с незнакомым мужчиной ночью среди леса и поёжилась. Дома и в школе, на курсе безопасности жизнедеятельности, нас учили избегать таких историй. Даже присутствие одноклассников и учительницы не умаляло моей тревоги.
Ко мне подкрадывалось предчувствие того, что случится много позже, и страх оледенил меня. Чтобы немного упокоиться, я представила, как мы с отцом сидим на крыльце дачного домика. Там, в моей понарошке, он принёс из дома одеяло, чтобы я укуталась. Люблю это слово, уютное, как кокон, в который нет доступа ни волчку, ни подкроватному чудовищу, ни зимним сквознякам. В понарошке я смотрела на яркую звезду над непричесанной лесной кромкой. Звезду звали Бетельгейзе, красный гигант в созвездии Ориона. Стоп, как он мог читать там, в темноте? Над крыльцом фонаря не было, а света из окна явно недостаточно, чтобы разглядеть мелкий шрифт. Несостыковка выбросила меня обратно в осенний Горьковский сад, и я поперхнулась.
Закипая жёлтой пеной, шипели деревья, пахло попкорном и сладкой, будь она неладна, ватой.
– Ты слушаешь? Что я сейчас прочитал?
Отец смотрел прямо на меня. Без кокона снова стало невыносимо холодно. Я поежилась. Мимо медленно проплыл глянцевый круп пони, увешанный разноцветными кисточками. Колесо обозрения поскрипывало – или это скрипели мои неповоротливые мозги?
– Бетельгейзе, карлик…
– Это было пять минут назад. Я для кого тут надрываюсь? Сижу, как идиот, трачу своё время…
Я знала, что в финале он скажет спасительное «дура», словно кулаком ткнёт, и сразу отстанет. Правда, потом ещё долго, до самого дома, не заговорит. Действительно, что с дурой-то разговаривать?
Я пыталась вспомнить хорошее.
Честно.
ОН
Листаю страницы. Две, три, пять. Надо закрывать. Тут ничего, что могло бы мне пригодиться. И всё равно листаю, листаю, листаю.
Хорошо пишет.
Как будто книга.
Одна история там была, про муравьишку. Запомнилась почему-то.
ОНА
До школы я ни с кем не дружила. Друзей и потом-то не прибавилось, но уже по другим причинам. До школы им просто неоткуда было взяться: в садик я не ходила, во двор вылезала редко и всегда с мамой – такое время. На выходных мы гуляли по городу, ездили на природу, в музеи. Папа читал мне вслух неинтересное, взрослое, «без картинок и диалогов», как сказала бы кэролловская Алиса. Следил, чтобы слушала. Вопросы задавал. Не дай бог отвлечёшься, посмотришь в окно, на небо, станешь теребить завязку платьишка… Накричит. Обругает. Книгой может запустить, мимо, конечно, не в меня – в стену, в окно, в Соломинку, где только что набирали запотевшей лимонадной бутылкой ледяную воду.
Уже потом, в школе, на уроках литературы занимались такой же баламутью. Называлось это тестами на знание текста. «Сколько денег Лужин положил в карман Соне Мармеладовой? О чём Шурочка просит Ромашова перед дуэлью?» Я всегда сдавала эти тесты на отлично. Не потому, что читала внимательнее других, просто знала, чувствовала, на какой крючок нас будет ловить литераторша. Отец меня натаскал на поиск подвохов.
Я пыталась подружиться с книжными героями. С некоторыми, наиболее отличившимися, вроде Олега из «Повести о сыне», мечтала вместе умереть. Представляла, как бегу, спасаю кого-то, а потом лежу на примятой траве или чёрном военном снегу бледная и холодная, и кто-то глухо, с комом в горле, говорит, какой замечательной я была. Да это же отец! Может, он даже заплачет.
Моего первого и, возможно, последнего настоящего друга звали Муравьишкой. Чёрный и гладкий, отлитый из чёрной пластмассы, он всем, кроме меня, служил регулятором громкости радиоточки. Не знаю, почему эта штука напомнила мне героя любимого мультика – ассоциации непредсказуемы. За завтраком Муравьишка терпеливо сидел подле тарелки и наблюдал, как я ем манную кашу; когда мама учила меня читать по слогам, поглядывал на цветной разворот страницы; в ванную его не брали, оставляли на кухонном столе, чтобы не наглотался ненароком воды.
А потом отец его приклеил.
Посадил на «Момент».
Не случайно – с холодным расчётом.
…и никого не стало.
ОН
Две недели до капельницы я не помнил. Пришёл в себя уже в чистом тёплом боксе, промытый, забинтованный, с вшитой в руку капсулой с дисульфирамом. Сестричка, явно из наших, с деловитым бесстыдством опытной медички ощупала меня, как куклу для тренировки оказания первой помощи.
Тогда-то я и увидел Батю.
Он вошёл в палату, по-киношному раскинув белые крылья халата, метнул взгляд в медсестру, которая тут же бесшумно испарилась, и проговорил неожиданно влажно:
– Так-то, сынок.
– Товарищ генерал…
– Владимир Анатольевич.
– Владимир Анатольевич, Раджибаев погиб, Мищенко погиб, Баирова Лёху убило, Гапонов…
– Знаю, знаю, сынок. Всё знаю. Березниковских ведь тоже всех положили.
Я не заплакал, просто посмотрел на чистые, бело-розовые, как хорошее сало, ногти генерала Рыклина. Как у него, не паркетного, не штабника, могли быть такие аккуратные ногти?
– Я не хочу, – он говорил тихо, но цельнометаллически, как и всегда, – чтобы ты умер. Они не для того погибли.
Простые пошловатые слова, глупые и пафосные. Но я поверил. Не словам, а Рыклину, его переломанному при падении «вертушки» позвоночнику, дивизии, что не полегла у станицы Багряной исключительно благодаря его мудрому приказу, и ордену, от которого он отказался посреди сияющего кремлёвского зала.
Я не знал тогда, что нужно будет делать, но прикажи Батя перегрызть кому-нибудь горло, я засомневался бы лишь в том, что зубы достаточно остры.
Всё утро Надежда переводит какую-то скукотищу.
Ближе к обеду мне надоедает читать условия поставки биодобавок, я закрываю окошко, оставив маленький прямоугольник с видео, и щёлкаю тумблером чайника.
Чайник живёт не в кухне, а тут же, у рабочего стола. Компанию ему составляют пустые стаканы из-под картофельного пюре и гречневого концентрата.
На её столе среди блокнотов и фигурок – кружка с глупым щенком и полустертым от полоскания в посудомойке пожеланием счастья.
Новогодний подарок приятельницы со странным именем Деянира.
Я вижу ухо щенка на видео с фронтальной камеры. Оно не в фокусе, расплывается.
Каждый раз, прежде чем заварить чай или кофе, она ополаскивает кружку и насухо вытирает полотенцем.
У меня всё иначе.
Стены белые, гладкие. Нет ни картинок, ни мудрых изречений в рамочках; полки полупустые, на них только немногочисленные книги. Нет фотографий, сувениров, лишней посуды, всего того обычного человеческого хлама, который делает дом домом.
Это Логово.
Обычно я чувствую себя в Логове хорошо. Нет, не то слово. Защищённо. Удобно.
Я почти не покидаю его пределов. Продукты привозит доставщик, рабочие документы присылают письмами. Электронными, разумеется.
Как сейчас.
«Хе-хей! Продолжаются распродажи. Лови скидку на оргтехнику», – гласит письмо. Для человека несведущего напоминает рекламный трюк.
Расшифровываю.
«Продолжай наблюдение. Особое внимание на личную переписку».
Есть продолжать.
Делаю кофе, он туго растворяется, образует странную пенку, как в детстве, когда я размешивал песок с водой в голубом ведёрке. Равнодушно пролистываю мессенджер. Мне не в новинку читать чьи-то диалоги, но иногда всё ещё хочется вставить реплику, подсказать, поправить. Обычно так проходит день. Мне не составляет никакого труда просидеть за компьютером – своим и её – большую часть суток. Мои глаза, намученные солнцем и горной пылью, не болят.
И всё же сегодня…
Неплохо бы покурить.
Подхожу к окну, аккуратно отодвигаю фланелевую занавеску. Двор пуст. В детском саду, похожем на гигантскую букву «Н», тихий час. Вдоль ограды бредёт одинокий собачник. Губы его шевелятся: кажется, он говорит с псом. Странная привычка. Впрочем, ничуть не менее странная, чем моё занятие.
Откидываю форточку.
Пара щелчков зажигалки, затяжка.
С того времени сигареты для меня всегда пахнут чесноком. Так пахли сигареты Раджибая.
«Не хватайся за фильтр, – учил Раджибай. – Тут гепатит всюду. Открывай пачку с другой стороны, подожжешь – прокалишь, никакой заразы не будет».
Я тех пор я всегда открываю пачку именно так.
Спасибо, Раджибай.
Хотя там, где ты сейчас, моё спасибо тебе вряд ли пригодится.
«Не обязательно поминать в церкви, – говорила бабушка. – Я вот выйду в сад, гляну на отцовы яблони и помяну его добрым словом. Ему на том свете теплее станет».
Тепло ли тебе, Раджибай?..
Мне не забыть, как ты кричал нелепое, киношное: «Холодно, холодно!»
Над нами трепетал кусок бумажного солнца.
Я накрыл тебя, чем пришлось, но ты всё равно замёрз. Кровь – теплоноситель. Так-то.
Сминаю недокуренную в консервной банке. Давлю, как клопа.
Тепло ли тебе, Раджибай?
Мне – холодно.
Встала ночью попить…
Слышал-слышал. Загрохотала чем-то на кухне, сочно выматерилась, после жалобно полилась в чайник вода. Я уснул за столом, лбом в сальные клавиши, и меня разбудили шаги в наушниках. Как будто Надежда кралась ко мне по коридору. Оглянулся даже, нет ли кого здесь, в Логове. Не было, разумеется.
Раджибай давно не заглядывал, да и ходит он бесшумно, как кошка. Прирождённый разведчик.
ОНА
Встала ночью попить – двор волшебный, белый. Снег, да не снег вовсе, наивная белая крупка, на двускатной крыше детского садика, на траве, на асфальте – его ещё не успели размесить машины. Мне сделалось (сейчас так не говорят, надо, наверное, заменить на «стало», но «сделалось» ведь куда лучше звучит) так легко, светло, как в детстве, когда выпадал первый снег.
Мама говорила, что в бабушкиной родной деревне Покров праздновали дважды – четырнадцатого октября, со всей Святой Церковью, и потом, по-язычески, ещё раз, когда снег действительно ложился на землю.
К утру снег превратился в дождь.
Даже окно занавесила – не хотелось видеть, как праздничная белизна истлевает, покрываясь оспинами капель.
Шла сегодня к ученичке (мама бы отругала за эту «ученичку», слишком провинциально звучит, мама не любит такого, но она, эта Леночка, такая маленькая, полупрозрачная, нежная, что кажется совсем крохой), и на Пушкарской с дома свешивалась зелёная сетка, знаешь, такая, какой закрывают обычно строительные леса. Мерзкая сетка. Она там уже лет пять, если не больше, впитывает грязь и злобу, которую выдыхает город.
Я вдруг почувствовала себя этой сеткой, кляклой паутиной на столетнем кирпиче холодного чужого города.
Я не стану здесь своей.
Вспомнила, как на первом курсе Даша Забарская – полная, хорошо одетая, с ленивыми злыми глазами – в ответ на какую-то глупую оговорку сказала мне: «Ты что, с Урала?» – и рассмеялась. Некрасиво, раззявисто, и все, разумеется, услышали, обернулись, прибились к нам, чтобы узнать, что такого я сделала, чтобы дать им повод позубоскалить. Про Урал была шутка, присказка, но мне стало так горько, что я чуть не смазала Забарской кулаком по пухлым губам, влажным от дорогой помады. Именно эта помада, вернее, нежелание ощутить её маслянистый след на руке, меня и остановила. Я ещё долго потом не покупала никакой помады, даже гигиенической.
Чушь какая.
Какие мы, люди, несовершенные, ломкие изнутри. Какая-нибудь глупость, сказанная накануне в компании, не даёт нам спать; детская обида отравляет всю жизнь, расползается лиловыми трупными пятнами по живому телу; имя человека, давно забывшего о твоём существовании, вызывает приступ паники, горькую рвоту, недостаток кислорода.
Как мы вообще выжили?
Я бы на месте эволюции оставила каких-нибудь эвглен – у них не бывает несчастных любовей.
Моя была эталонная, по канону, в Палату мер и весов её поскорее, чтобы ни у кого больше такого не случилось.
Я росла чувствительной барышней, воспитанной на готической тени мистера Рочестера, того ещё мудака, если подумать, и какого-нибудь Сани Григорьева, которых в обычной человеческой жизни не встречается.
Отцовские словесные зуботычины меня не ожесточили, напротив, умягчили до невозможности. Вот-вот, думала я, придёт прекрасный принц, и всё изменится.
И он пришёл. Перевёлся к нам из Имандровска («Это за полярным кругом, Мурманская область») в сентябре выпускного учебного года.
Я была занята подготовкой к поступлению, совершенно не до любви, и поэтому я не сразу поняла, что иголка уже движется по кровотоку. Так говорила бабушка: не кидай иголки, где попало, воткнётся, попадёт в жилу и доплывёт до сердца. Так и умрёшь, не спасут.
Спасли.
Меня поразила его мать – сухая, тощая, круги под глазами, и всё лицо какое-то высохшее, как древесная кора, – такие бывают у святых на иконах. Хлопотала вечно, говорила в нос и тихо, комкала окончания фраз. Однажды он выложил мне историю – не свою, материну, и я перестала встречаться с ней глазами. Будь я ею – не хотела бы, чтобы кто-то знал.
Дед, отец матери, был в Имандровске директором Завода, «вторым человеком» после первого секретаря горкома. Его портрет (чёрно-белый с волнистой кромкой) до сих пор висит на стене Имандровского краеведческого музея между витриной с пыльными чучелами жителей тундры и макетом Завода. На снимке дед силён, скуласт, чернобров и маслянисто зачёсан. Человеком он слыл неплохим, но в других людях не разбирался ничуть, удивительно, как до директора дорос, поэтому, когда его единственная дочь Людочка, окончив институт и аспирантуру, притащила в дом гривастого любезного Костика, едва вышедшего из пубертата, не воспротивился, не стукнул кулаком в дубовый стол, не крикнул зычно в кухню: мать, посмотри, кого Людка притащила, это же шелупонь, а, напротив, растроганно благословил молодых и выхлопотал квартиру на центральной площади (Ленина, разумеется).
Через год после свадьбы Люды и Костика дед погиб. Мутная, как Имандровская вода, история. Его так и не нашли. Это озеро никогда не таяло полностью, даже в июле на дне под илом могли оказаться ледышки. У полыньи осталась шапка-пирожок и тяжёлое, на ватине, пальто, с меховым воротником. Дед провалился под лёд – только зачем его туда понесло поздним вечером в разгар полярной ночи? И откуда там, в диком, свивающем холоде, взялась полынья?
Бабка почернела, Людочка едва не потеряла Человека из Имандровска, но больше всех убивался Костик: не того он ожидал, женившись на дочери директора завода, староватой и откровенно некрасивой.
Не того.
С тех пор он будто бы перестал видеть Людочку. Смотрел сквозь неё, но всё же видел несвежее бабье лицо, красные глаза, сеточку ранних морщин. Как он просчитался! Как ошибся! За что ему это?
Человек из Имандровскапошёл в Костика – и лицом, и характером. Людей не любил, всё больше использовал. Я ему позволяла передирать – разумеется, не слово в слово, – ответы по литературе. Были ли хороши мои ответы? Считалось, что да. На фоне всей той ерунды, которую пороли одноклассники, я со своим пафосом и умением хватать по верхам казалась вдумчивой и старательной.
До сих пор помню дурацкий вопрос к стихотворению, кажется, Симонова, об Амундсене: «Почему покой назван свирепым?»
ОН
Действительно, почему?
В больницу я угодил по глупости, но, наверное, не окажись я там, сейчас кормил бы червей где-нибудь на последней аллейке Серафимовского. Иногда, закрывая глаза, я вижу свой собственный памятник из дешёвого пятнистого камня, пошлую сусальную берёзку, осеняющую эмалевый овал с лучшей из моих фотографий – худой, подростково-угловатый, коротко стриженый пацан, снятый для истории девчонкой, пропавшей без вести много лет назад. Здесь, на большой земле, тоже, оказывается, пропадали. Где они оказывались потом? Не в тех ли зинданах, где гнили мои товарищи?
Месяц после возвращения я крепко пил, потом полгода – пил по-чёрному, мертвецки, вытаскивая на толкучий рынок всё, что представляло хоть какую-то ценность. Маме там, куда она ушла, пока я курил с Раджибаем чесночную дрянь в развалинах Президентского дворца, было уже не нужно всё это: ни деревянные часы с гравировкой на лакированном боку, ни коленкоровые многотомники (они, впрочем, и на толкучем не ценились), ни бронзовый Дон Кихот со сломанным при падении с полки копьём, ни ломоносовский сервиз с золотом, ни… оттуда
Летом пить одному стало совсем уж невыносимо, и я нашёл себе двух товарищей: работягу Генку, больного циррозом, и безработного препода Сашку Мамалыгу, который, поговаривали, хранил в столе готовую кандидатскую. Пили вдохновенно, увлечённо, не зная меры. В хриплом забытьи и делирийной пелене на нас (почему-то на всех разом) двигались казачьи эскадроны. «Руби!» Свистели, рассекая воздух, шашки и нагайки. Первый казак, с лицом постаревшего от времени и водки Петра Глебова, нацеливал на меня пику… И тут же сбоку, на краю, где мельтешила тошнотная дрянь, возникала фигура Раджибая. Укоризненно качая косматой головой, почему-то всегда непокрытой, он стоял во весь рост на пути рождённого моим потускневшим сознанием инфернального казака. Даже если я не видел лица товарища, его выдавала фигура: мешковатая выгоревшая куртка, расцветку которой позже назовут «флорой», выменянная у кого-то бесценная натовская разгрузка и гротескно кривые ноги («Не понимаешь, – смеялся Раджибай, скаля сахарные зубы, – это у меня национальное, чтоб на лошади скакать удобнее»). Раджибай вскидывал руку, и казака разносило в труху, а меня выкидывало из сна прямиком на заблёванный мамин ковёр. «Палас» – говорила она, любовно выгоняя на снег пыль гнутой, как крендель, выбивалкой. Ковёр у меня не купили: в день моих проводов лопоухий Костя Акимушкин уронил на него бычок. Сил ругаться у мамы не было, и она молча заставила дыру журнальным столом… туда
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.