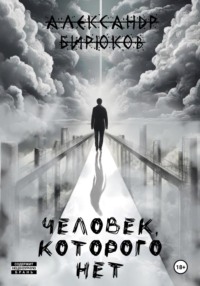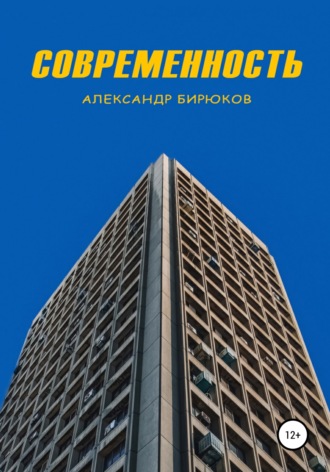 полная версия
полная версияСовременность

Александр Бирюков
Современность
Я где-то слышал, что существует группа людей, которая до сих пор против вмешательства в естественный ход жизни человека. Да, в наше время до сих пор существует много различных конфессий, верований и сект, которые хотят казаться исключительными на фоне всеобщей однотипности – выделиться, так сказать. Но они, – про этих людей я слышу впервые и, честно говоря, мне стало очень интересно узнать про них немного больше, потому что в наше время знать все – это уже не такая из ряда вон выходящая способность, как это было еще у наших предков лет сто назад.
Они пропагандируют естественную и «неподдельную» жизнь среди нас – людей, которые претерпели достаточно сильные изменения своего организма, которые уже излечились от множества недугов с помощью генных усовершенствований, нас – людей, которые стали сильнее, умнее и совершеннее, чем наши предки, умиравшие от таких пустячных болезней как ВИЧ или рак. Эти люди не хотят, чтобы нарушалась естественная цепь событий, ведущая человечество к единственно правильному развитию, к природной, «слепой» эволюции. Но кто совершенен, если не мы?
Мне не составило особого труда найти то место, где жили эти люди. Большая коммуна единомышленников на краю огромного города, где под рукой было все необходимое: любая помощь, любая пища, даже маленькая порция которой удовлетворяла потребностям и насыщала организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, любые развлечения, любая информация, которая теперь доступна для всех и каждого во всех уголках мира – только попроси и тебе устроят блаженную жизнь, о которой мечтали многие на протяжении тысяч и тысяч лет, – но эти люди отрицали все блага, которые несет нам прогресс.
Стоя у входа в небольшое серое здание, которое не очень сильно выделялось от подобных ему строений по всему району – району, который был похож на резервацию, но, тем не менее, никак и никем не ограждался, ничем не отличался от разношерстных колоритных районов по всему мегалополису, где и жил я уже довольно долгое время, – стоя у входа в это здание мне, честно говоря, было немного страшно. Нет, я не боялся насилия или жестокости в свой адрес – эти чувства отсутствовали у меня по определению с самого рождения, но мне было немного непривычно видеть мир не таким, каким я привык его видеть. Мне казалось, что я видел все, я побывал в десятках тысяч районов и городов по всему земному шару: районы в стиле модерн, конструктивизм, ранняя псевдоготика, функционализм и метаболизм, колоритные улицы всех национальностей планеты, выстроенные с нуля, и такие же районы старых поселений, миниатюрных пирамид и восточных храмов, существовавших еще задолго до промышленной революции; я видел тысячи и тысячи домов в различных архитектурных решениях, задумках и планах, в свое время отвергнутых эпохами и их вождями – я знал каждую деталь в этих домах, я знал историю каждого из них, но сейчас, стоя перед серым и невзрачным многоэтажным домом в центре моего мегалополиса, ставшего мне по-настоящему родным, я не знал об этом строении, ровным счетом, ничего – такого я никогда не видел и не имел ни малейшего представления о его истории.
По улице бегали дети, играя в примитивные игры, кричали и резвились, словно отсталые – их необходимо было уже давно направить к врачам на обследования и не выпускать до тех пор, пока не будет выявлена причина их странного поведения. Но они до сих пор были на свободе, как животные в постиндустриальную эпоху. Детей было мало, намного меньше, чем на крупных площадках современных, только-только застроенных пространств.
Открывая стеклянную матовую дверь, я пропустил выходившую из дома женщину. На мгновение мы встретились с ней глазами – уставший взгляд в серых хрусталиках, окантованных изумрудной россыпью; «напрасная и бессмысленная жизнь в оковах “настоящей”, “неподдельной” жизни», – подумал я, еще не привыкнув к вялотекущему движению ее ног и шелесту ее платья. Через несколько секунд мне уже стало их не хватать – за мной закрылась дверь, я остался один. Я видел в этих глазах целый мир, но другой, совершенно другой, который я не мог понять, не мог понять даже при том, что я знал ровно столько, сколько мог усвоить за свою недолгую жизнь: миллионы тонн бумажной информации и миллионы экзабайт знаний, которые хранились во всемирной сети. Что же хранилось в голове у нее? Что она могла знать, смотря на меня такими обреченными глазами, полными усталости, рутины и безропотного спокойствия, не приносящего никакого удовлетворения? Она была изнурена, она была стара, физически стара – именно так мне и рассказывали об этих людях, живущих по своим законам и своим правилам. В первую очередь их отличала сухость кожи, огромное количество складок и морщин, бледность – это то, что сразу же бросалась в глаза; ее волосы были спутаны и неказисты.
Она прошла, оставив после себя не очень неприятный запах: запах пота и пережаренной – пережаренной! не просто подогретой, как это делают некоторые, а именно пережаренной – пищи. Еще мне казалось, что я уловил запах слез, совсем недавно высохших на ее щеках и в уголках глаз. Это было удивительно и непривычно для меня; мое сердце стало биться немного быстрее от полученного количества информации, которая была для меня совершенно нова, – она не могла ужиться со всем тем, что я знал и чувствовал за все эти годы. И я задался вопросом: а правильно ли все то, что я чувствовал? правильно ли все то, что я знал?
Я стал подниматься по лестнице на нужный мне этаж к человеку, который, по рассказам, мог помочь получить ответы на интересующие меня вопросы; но сейчас, когда я оказался здесь, мне стало чуждо все то, что я знал. Я забыл все то, что я хотел спросить, и теперь я просто шел на нужный мне этаж без всякого плана, без всякой идеи – наверное, именно поэтому мне сказали, что здесь можно испытать то, что нигде и никогда я раньше не испытывал.
Они оказались правы. Лестница была такая же серая, как и цвет дома: осенне-пепельная с множеством темно-серых вкраплений. С каждой платформы между этажами, на которых я останавливался, чтобы перевести дыхание, открывался прекрасный вид на окрестности, и чем выше я поднимался, тем красивее становилось… не то, чтобы красивее, скорее, необычнее. Я видел множество панорам с высоты птичьего полеты и даже выше, намного выше, но сейчас с высоты двенадцатого этажа я видел то, что заставляло меня забыть все полеты в пределах стратосферы, я видел разруху и нищету, но, как бы это было ни странно, только физическую, никак не ментальную, научную или духовную, – по всей видимости, люди, живущие здесь, считали свои достижения на порядок выше, чем достижения всей цивилизации в целом.
Дойдя почти до предпоследнего этажа, я понял, что достиг желанной цели. За обычной металлической дверью, чистой на вид, тихо и монотонно скрипящей, оказался большой и длинный коридор. По сторонам коридора располагались металлические грузные двери, некоторые из которых были слегка приотворены. Из-за дверей доносились громкие детские крики; но за всеобщей давящей тишиной эти звуки растворялись, после чего тихое эхо еще раз доносилось до моих ушей, а затем наступали секунды, когда ничего нельзя было услышать, кроме едва различимых постукиваний с той стороны дверей, где еще недавно был слышен детский гул. Странные диалекты слышались мне в этих детских голосах, и хотя я знал свыше пяти тысяч диалектов и мог в любую секунду адаптировать полтораста языков, я не мог узнать в этих голосах, кричащих какие-то совсем наивные и по-детски забавные ругательства, ничего такого, что бы я мог понять наверняка, – только косвенно я мог сопоставить то, что я знаю, с тем, что я слышал. Я знал этот язык – он был мне родным и, кажется, без всякого сквернословия и ненужных шипящих согласных или мычащих гласных не было ничего такого, что могло бы смутить меня, но все же я не понимал, как мог на этом континенте существовать диалект, который был таким непритязательным и странным. И эти двери – они тоже сильно удивили меня, – они ненастоящие, нет! Это все просто декорации к новому фильму, где героям нужно жить по-особенному, чтобы прочувствовать на своей шкуре, что есть такое их роль. Это казалось невозможным: как будто контролируемый сон, где можно сформировать свой мир, лишенный права на ошибки, – такие сны видели все, отчего они потеряли свою многогранность и индивидуальность, они потеряли свою структуру неординарности. И если когда-то люди могли видеть свои собственные сны, теперь каждый из нас видел одно и то же, – эстетический дефект, заключавшийся в однообразии; жертва, принесенная в угоду совершенству.
Тихо отворив металлическую дверь, я попал в следующий коридор, подобный тому, в котором я только что был, но только по сторонам этого коридора было намного больше дверей: таких же железных и таких же холодных. Некоторые двери были распахнуты настежь; между квартирами бегали дети, голоса и крики которых я слышал еще задолго до того, как нашел источник шума. Мне казалось, что все это место похоже именно на муравейник, на тот самый муравейник, о котором нам рассказывали в школе и который, честно говоря, я никогда в жизни не видел, но то, что я представлял его подобным образом, слушая в школе о большой колонии маленьких существ, – это было совершенно точно так. Я так привык к размеренной жизни в уединении, в постоянной тишине и отсутствии угнетающего, долгого контакта – как вербального, так и физического – с людьми, что теперь испытывал сильный дискомфорт от слышимого шума и постоянного мельтешения детей перед собой.
Когда я подошел ближе, дети, увидев меня, остановились. Они рассматривали меня; оценивая взглядом, они простояли так довольно долгое время, после чего снова стали бегать и кричать что-то свое: наивно-детское. Я успел заметить в руках маленькой девочки игрушку, старую и с ног до головы грязную. Этой игрушке, наверное, было не меньше пяти лет, а, может быть, даже и больше – никто не держал у себя дома вещей, будь то предметы быта, электроника или картины, окна, настенные покрытия, больше двух лет – это было моветоном, а эта маленькая девочка вцепилась в эту игрушку так крепко, что можно было подумать это была ее единственная игрушка на всем белом свете. И когда я пошел дальше по коридору, мне посчастливилось мельком глянуть туда, куда только что забежали дети. В этих квартирах, которые были просто большими и заполненными всяким хламом комнатами, было идеально чисто, и даже нагромождение всякого хлама не казалось скопищем мусора – все стояло ровно на своих местах, очевидно, отведенных для этого, хотя от количества маленькой утвари в небольшом помещении пестрило в глазах.
Меня обуревали непривычные, неизвестные мне ранее чувства; сложно сказать, что я испытывал сильнее: тошноту и отвращение от всего здесь происходящего, от странных, порочных лиц, их мимики, возгласов и действий, или же невероятное, неописуемое счастье от неизведанного, – я был здесь словно первооткрыватель, нашедший племена, неизвестные Старому Свету. Я чувствовал себя отвратительно, но, вместе с тем, невероятно – все это чередовалось между собой, а порой сливалось в одно сумбурное чувство, захватывающее все тело целиком, захватывающее и сковывающее голову. На секунду я терялся и мне становилось совершенно все равно, что и сколько я всего знаю, сколько я видел за свою жизнь: людей, мест, сколько я слышал и знал текстов песен, сколько знал созвучий и воплощений музыкальных дилемм в форме каденции и абсолютной дисгармонии, сколько обертонов соскакивало с гитарных струн в консерваториях; мне стало все равно: умру ли я или буду жить вечно. Но это ощущение продолжалось секунды, а после я взял себя в руки, терзаемый сомнениями: а нужно ли мне все-таки продолжать идти, продолжать двигаться вперед, узнавая нечто сокровенное? Я шел дальше, не представляя, что спрашивать у человека, к которому я направлялся, не представляя, что ждет меня впереди и как это отразится на моем и без того подорванном душевном состоянии. Такого, я считал, невозможно испытать нигде; в любой точке планеты, с любым багажом знаний и любой подготовкой – нельзя было прочувствовать таких смешанных эмоций, какие я получил и получаю до сих пор здесь. Кажется, видеть своими глазами прошлое, видеть своими глазами декаданс и стагнацию, воплощенную в людях, их идеях и мыслях – все это казалось таким… таким нереальным, таким жутким, но так же, в какой-то мере, и прекрасным, – я очутился в мире, где нет для нас – людей, не знающих страданий и неприязни, ненависти и боли – привычных положений и устоев. Все эти чувства поглощали меня целиком, и это при том, что я все еще даже не контактировал с ними.
Подойдя к нужной мне двери – одной из бесконечного множества дверей, – я на секунду остановился. Почему я это сделал? разве не должен был я безотлагательно сделать то, что намеревался изначально? что пугало меня, что теперь расслаивало мои решения на пласты сомнений и нерешительности? Как странно, что я остановился, и это стало меня угнетать, да, уже угнетать: я чувствовал себя не в своей тарелке, не в своей миске, плошке и блюдце, но дело не в семантике моего чувства, а в том, что оно вообще есть, что оно существует теперь. Я не испытывал таких чувств даже тогда, когда принимал психоделические вещества, даже тогда, когда один раз в своей жизни подрался! – о как же это было глупо и неэтично, несовременно; какое отвращение я испытываю, когда осознаю, что даже сейчас человек не может оградить себя от насилия, – смятение и тошнота – это все, что осталось от привычного мне спокойствия. Как будто в генах осталось что-то от нашей животной сущности, и сейчас, в этом месте, они пробудились, проснулись от долго сна, и мне было страшно, очень страшно.
Все же я решился: я открыл дверь, чтобы понять, чтобы узнать нечто новое, ведь знания для меня всегда стояли на первом месте, а узнать то, чего не знает почти никто, – это так заманчиво и соблазнительно. Но внутри, к моему удивлению, никого не оказалось, только нагромождение мебели и статуэток, миниатюрных фигурок разного дизайна и цвета, совсем не сочетавшихся друг с другом – такая эклектика резала глаз, но, по всей видимости, только мой. В комнате стояло множество белых ваз с большими крепкими деревьями внутри них, чьи продолговатые острые листья свисали почти наполовину всей высоты ствола; длинный плоский изогнутый телевизор стоял в нише белого шкафа с множеством стекол, которые, увеличивали пространство первой комнаты, но уродовали ее тем, что размножали захламление и огромное количество ненужных вещей; у правой стены стоял высокий диван с бежевой спинкой и подушками, каркас был сделан из дерева, покрытый темно-коричневой краской, а под диваном лежал ковер, аккуратный черный ковер без веревочек и шнуров – просто черный ковер, плотный и немного заляпанный чем-то белым в правом нижнем углу, у самой ножки дивана; пол был гладкий и белый, покрытый лаком или эмалью. Робко стукнув несколько раз в дверь с внутренней стороны, а потом еще и еще, я ждал какого-либо отклика на мой едва слышимый зов, но ничего не произошло, – теперь мне казалось, что в тишине до сих пор висит тяжелый и гулкий звук стука, который до сих пор витает в пространстве. Никого не было в квартире, совсем никого.
И хотя мне стало легче от того, что мне не придется теперь общаться и ничего спрашивать у незнакомца, к которому у меня пролегал путь до этой секунды, я все же был немного расстроен: удовлетворен проделанным путем, но не доволен тем, что зашел не так далеко, как хотел. Словно боясь обжечься еще больше, я хотел убежать, уйти, уплыть, упорхнуть, – словом, сделать все, чтобы как можно скорее убраться отсюда, но я не мог не пройти в конец этого длинного коридора, потому что там, в конце, виднелось огромное панорамное окно и часть лоджии, с которой открывался вид на огромную территорию близлежащих мест. Я пошел туда, ведомый неизвестной силой. Я пошел туда только потому, что мне больше нечего терять, да и, в принципе, мне и так было нечего терять на самом деле, но я знал, что причиной моему ярому стремлению было сидевшее глубоко внутри желание все же найти того самого человека, с которым я хотел поговорить, у которого я хотел так много узнать, тем более, сейчас.
Слева от панорамного окна располагался кухонный гарнитур и небольшие шкафы, по той же схеме висящие над столами; справа – три дивана такого же стиля и цвета, как и в комнате, в которой я был совсем недавно, продольный кофейный столик на очень маленьких металлических ножках, отчего он почти что касался брюхом пола, и в два раза больше этого столика ковер, придавленный этими самыми ножками конической формы, сужающимися ближе к самому полу; по комнате лежало много мягких кресло-мешков; в углу, куда и были направлены кресло-мешки, висел телевизор. Здесь везде царило одиночество, на фоне которого было так много людей (которых сейчас не было; только дети резвились за спиной, перебегая из квартиры в квартиру), которые своим присутствием разрушали всю подноготную, едва заметную атмосферу уютной безропотности и тишины.
Я подошел к кухонному гарнитуру, положил руку на лакированную поверхность, а потом пошел вдоль кухонной столешницы, рукой скользя по гладкому покрытию, на котором изредка встречались крошки или жирные пятна, от которых пальцы начинали скользить немного быстрее. Это было пространство для отдыха и общения, но сейчас тут никого не было, совсем никого, с кем можно было бы поболтать и даже с кем хотелось бы поболтать в таком большом, ограниченном прозрачными стенами и стенами невзрачными, которые примыкали к соседним квартирам, спрятанным в тесноте огромного коридора, помещении. От моих мягких, почти что воздушных и обычно неслышимых шагов, под покрытием пола что-то скрипело, или даже шипело, но только несколько раз, когда я проходил иссиня-черный кофейный аппарат, расположенный посередине гарнитура. И, о чудо, когда я подошел к самому краю столешницы, когда дальше уже, казалось, быть ничего не может, следом за ней оказалась небольшая ниша, где на кресло-мешке сидел мужчина, свернувшись клубком и обхватив себя левой рукой за колени, правую спрятав за поясницу; и когда я подошел к нему совсем вплотную, он преобразился на мгновение, раскрыл широко глаза, изучая меня, а потом снова свернулся в клубок, вдавился в мягкий наполнитель кресло-мешка и стал глупо смотреть себе под ноги, глубоко вдыхая спертый и сухой воздух.
Меня удивило, что в лоджии все-таки кто-то есть, потому что все это время я так беспардонно шлялся по территории мне не принадлежавшей и даже не считавшейся общественной в привычном для меня понимании.
– Извините меня, – сказал я, оправдываясь больше перед собой, чем перед мужчиной, совсем не обращавшим на мои слова внимания.
Мое сердце начало учащенно колотиться, и раз я уже начал разговаривать с незнакомцем, я решил рискнуть и продолжил с ним разговор. Я решил узнать у него, не знает ли он человека, живущего в той квартире, куда я недавно заходил, чтобы услышать ответы на интересующие меня вопросы. Мужчина сказал, что этот самый человек – он. У нас завязался разговор; притащив кресло-мешок из центра лоджии и сев рядом с мужчиной, я заинтересованно слушал.
В начале нашего диалога я много спрашивал, но потом в этом совсем пропала необходимость, потому что мой визави и так стал говорить беспрерывно. Он говорил о вещах, которые захватывали меня с головой, которые казались мне настолько дикими и нетривиальными, что я просто сидел, разинув рот, и слушал, не прерывая его.
– Вспомни великих ученых, писателей, спортсменов того времени – все они были гениальны по-своему, все они были больны в той или иной степени, все они казались нам невероятно умными… а теперь мы можем просто пожелать особый ген, сказать врачам, чтобы они наделили наших детей особенными способностями, и ни нам, ни им просто не надо ни к чему стремиться – они не смышлёные, они просто умные. Но пойми: они не могут выйти за рамки устоявшихся представлений о мире, – да они знают все, но лишь в тех областях, которые освоило человечество за все эти годы. Они не гениальны, – они глупы. Только ошибками можно по-настоящему что-то сотворить, создать. – Его руки были неестественно скручены, вогнуты внутрь, словно он специально поджимал кисти, чтобы не выпячивать пальцы наружу, в чуждую ему среду. Всем своим видом он показывал, что ему неприятно находится рядом со мной, но, тем не менее, он продолжал говорить. Словно ребенок, он обжимал себя руками, а порой, расплетая их, начинал тереть ладонями плечи и ноги, как будто ему было очень холодно. – Ваше будущее пугающе-прекрасно, но станет ли оно таким, каким вы его видите сейчас: безоблачным, светлым? будет ли оно столь радужным и прекрасным без всяких забот и терзаний, без смертей и болезней, если вы даже теперь не знаете, что такое жизнь… что такое настоящая жизнь! Двести тысяч лет человечество формировалось на боли и на страданиях, естественном отборе, если вам так угодно, и именно поэтому мы сейчас живы, потому что мы приспособились, выжили в дичайших условиях текущего времени. Да, мои родители тоже имели иммунитет к некоторым заболеваниям и еще улучшенный метаболизм у отца, и повышенная стойкость к холодам и жаре у матери, но имея все это, они понимали, что живется им не только не лучше, но и намного, намного хуже, и именно поэтому они не захотели, чтобы я был чем-то искусственным или «полуживым». Да, они обрекли меня на смерть, но я бы мог избежать этой смерти уже сотни тысяч раз; но зачем мне это делать? Я не хочу так жить, потому что я верю, что в первую очередь мы сами вершим свою судьбу и сами решаем, что правильно, а что нет, и я считаю, что если мне было суждено стать больным, то, значит, так тому и быть – значит, я слаб и не должен продолжать жить, изменяя свой организм, обманывая все эти тысячи и тысячи лет человеческим достижением; я считаю, что теперь никто из вас не способен продолжать свое существование как вид. Как клон – да, а как вид – совсем нет… Звучит, конечно, смешно, но у меня каким-то образом проявилась гемофилия, переданная мне моими предками, а несколько лет назад у меня обнаружили рак. – Он был весь исцарапан и изрезан, его руки были покрыты толстыми рубцами. – И теперь я знаю, я точно знаю, что не проживу долго, но я не имею никакого страха – он не властен надо мной, – но только жизнь… остаток жизни, полной надежд и напрасных сожалений. Я мог бы за два дня избавиться от любой болезни на свете, по крайней мере, от большинства из них, но зачем? зачем мне бесконечно долгая жизнь, если я так глуп, чтобы иметь хоть что-нибудь про запас: время, силы, чувства. Вы такие умные, но вы не понимаете, что такое настоящая, натуральная и неподдельная жизнь, – после этого он приумолк.
Я действительно только сейчас смог осознать, что такое жизнь, что живя по инерции все эти годы, зная о философии разных эпох, зная рассуждения и мысли великих гениев, я ничего, по-настоящему ничего не понимаю в разделах, которые они изучали и над которыми они столько думали – для меня это все было только знание, но не понимание всего этого. Только прочувствовав, пропустив через себя что-то, можно изучить или хотя бы отдаленно понять, уловить суть. И сейчас, сейчас я, даже несмотря на столь огромное количество информации, мало что мог выявить для себя с точки зрения осознанности, но так много почувствовать – да, я чувствовал смятение и животрепещущий накал страстей, разрывавших меня изнутри, но вместе со всем этим приходило умиротворение, спокойствие и четкость мышления, утонченность обыденной мысли, никак меня не трогавшей ранее, – совсем, совсем не трогавшей, – блаженный страх перед неизведанным.
Я продолжал слушать:
– Но если мы станем совершенны, – говорил мужчина, – то будем ли мы действительно «совершенными»? ведь существует столько измерений, разумных форм жизни, непохожих на нас, столько неизвестного – того, что мы просто пока не можем понять, осознать; и, может быть, совершенство для нас сейчас – это изъян в будущем, может, это просто ненужная мутация, которая станет ящиком Пандоры для всего человечества в целом? И кто может гарантировать нам, что все это не превратится в фарс через десять – двадцать лет?
Он еще рассказывал и рассказывал о, как он сам считал, негативных последствиях вмешательства в жизнь человека и, в частности, ребенка, который еще не может сам решить, что он хочет и что ему действительно нужно в его жизни – все было уже предпринято задолго до его рождения, и в этом заключалось основное противоречие. Но он говорил не только о плохом, как ярый фанатик, отрицающий все, что он не понимает, – он говорил так же и о том, что было естественно и, с точки зрения морали и эстетической составляющей, правильно: о лечении болезней, о самом настоящем исцелении генофонда и его улучшении, использовании лекарств и процедур, – но даже говоря об этом осознанно и обдуманно, он не принимал этого и не хотел, чтобы это вошло в его жизнь или в жизнь кого-нибудь из его близких друзей или знакомых, которые жили совсем рядом, в соседних комнатах, этажах или зданиях. Его мир превратился в обособленную организацию, где не существует страха боли, страха смерти или непонятной, давящей скуки от бесконечного непонимания жизненного цикла – он понимал все слишком хорошо, хотя и не так обширно, как это понимал я, но, между тем, мне казалось, что он знает намного больше меня – понимает намного больше меня, несмотря на наши явные различия в мышлении и количестве знаний. Он говорил безостановочно, но порой замолкал, смотрел на меня исподтишка, словно пытался убедиться в том, понимаю ли я хотя бы толику его слов; его поникший, больной взгляд блуждал не только по мне, но и где-то за пределами места, где я находился, и мне казалось, будто за моей спиной ходят призраки, а он смотрит за их движениями, учась у них сомнамбулической способности не замечать ничего вокруг.